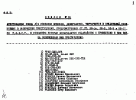Любарская Александра Иосифовна
Любарская Александра Иосифовна, 1908 г. р., уроженка и жительница г. Ленинград, еврейка, беспартийная, редактор Лендетиздата, проживала: Большая Разночинная ул., д. 3, кв. 28. Арестована 5 сентября 1937 г. Внесена в Список № 10 «Харбинцы» с ходатайством о высшей мере наказания как участнице «троцкистской шпионской группы, связанной с японской разведкой». Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 3 декабря 1937 г. принято решение предать Любарскую суду Военной коллегии Верховного суда СССР. Дело готовили для рассмотрения Военным трибуналом ЛВО, затем Особым совещанием при НКВД СССР. Благодаря упорству Любарской и ее заявлениям в Прокуратуру о действиях следователя П. А. Слепнева осуждение не состоялось. Благодаря заступничеству К. И. Чуковского и С. Я. Маршака в декабре 1938 г. освобождена 14 января 1939 г. До войны и в Блокаду работала в редакции детских передач Ленрадиокомитета. Член Союза писателей с 1947 г. Фольклорист, автор воспоминаний. Умерла в 2002 г.
А. Любарская
ЗА ТЮРЕМНОЙ СТЕНОЙ
Памяти всех моих погибших товарищей
Я прожила всю свою долгую жизнь в одном городе – сначала он назывался Санкт-Петербургом, потом Петроградом, потом Ленинградом. Теперь он снова Санкт-Петербург.
В этом прекрасном городе есть два здания, мимо которых я не могу проходить спокойно.
Это «Дом, увенчанный глобусом», как называл его Маршак, или Дом книги, как называют его все. Там, на пятом этаже, в двух комнатах (одна – угловая, с узорным балконом, откуда открывается вид на канал Грибоедова и на Казанский собор) – там, в тридцатых годах начиналась большая литература для маленьких. Там создавались книги, которыми зачитывались дети и с не меньшим интересом читали взрослые. Туда приходили самые разные люди и – иногда неожиданно для себя – становились настоящими писателями. Этому чуду они были обязаны Самуилу Яковлевичу Маршаку. Я прожила, работая рядом с Маршаком и учась у него, восемь счастливых лет.
И есть другой дом, на Литейном проспекте, который все называют Большим домом. Там собрались все тёмные силы, калечившие, уничтожавшие, убивавшие людей. Не поднимая глаз, я прохожу мимо этого Дома.
Я провела в Большом доме почти полтора года. Об этом сегодня мой рассказ.
Судьба Маршаковской редакции была трагичной. О ней можно сказать стихами неизвестного автора (найти его имя мне не удалось):
Ходит птичка весело
По дороге бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.
Бессмысленно задаваться вопросом, почему кого-то арестовали, а кого-то «не тронули». Тайфун не разбирает, какой посёлок или город снести, смыть с лица земли. Большой террор тоже не разбирает. Но в отличие от тайфуна он уничтожает и людей, и целые народы, и науку, и искусство, и культуру.
И всё-таки, зная всё это, я иногда спрашиваю себя, почему с такой яростью НКВД обрушился на небольшое детское – повторяю, детское – издательство.
И наши авторы, и вся редакция работали над темами, вполне отвечающими задачам времени.
Я перебираю книги, сохранившиеся у меня, и иногда мне начинает казаться, что я что-то понимаю, что-то улавливаю в поисках ответа на это «почему».
Беру книжку И. Шорина «Одногодки». Это о колхозе, о бедняцкой семье, вступившей в колхоз, о ребятах, которых ссорил и мирил колхозный конь, за которым они оба ревниво ухаживали. Кажется – самая правильная тема. Но ни одного слова о Сталине и ведущей роли партии.
Вот книга Л. Будогоской «Повесть о фонаре». Об этой книге – как о подлинной литературной удаче – газета «Известия» поместила большую статью В. Шкловского. Повесть эта – о школе 30-х годов. Но в ней нет ни слова о Сталине и счастливом детстве.
Книгу С. Безбородова «На краю света» – о зимовке на Земле Франца-Иосифа в 1933–34 годах – высоко оценил известный полярник профессор В. Визе. Книга рассказывает и о научных задачах экспедиции (сам С. Безбородов участвовал в ней как метеоролог), и о быте этой островной жизни, и об отношениях между людьми, отрезанными от материка. Но нигде – ни в «кают-компании», ни в комнатушках зимовщиков не видно портрета «вождя всех времен и народов».
В книге сказок «Олешек Золотые Рожки», обработанных и пересказанных К. Шавровым, читатель впервые почувствовал поэзию северных народов, но ничего не узнал про «отеческую заботу Сталина» об этих забытых народах.
Книга учёного, доктора физико-математических наук, профессора М. Бронштейна «Солнечное вещество» была не только об открытии гелия, но и открытием нового пути научно-художественной литературы для детей. Однако роли Сталина в развитии науки в ней нет.
Может быть, всё это и было причиной разгрома редакции. А может быть, причиной было то, что вокруг редакции собралось очень много талантливых людей. А талант – это опасность. Трудно сказать... Трудно объяснить...
Раиса Васильева оказалась среди детских писателей совсем случайно. Она пришла со своей рукописью «Первые комсомолки» в редакцию «Молодой гвардии», находившуюся в том же Доме книги, в комнате рядом с нашей детской редакцией. Рукопись была, что называется, правильной, никаких запретных имён не было. Редакторы «Молодой гвардии» решили показать её нашей детской редакции, мне и З. Задунайской. Но читая рукопись вместе с нами, Васильева то и дело прерывала готовый текст живыми эпизодами о своей бабке, о подругах, о рыбаке, с которым они дружили. Мы решили рассказать о Васильевой Маршаку. И тут произошло очередное чудо. Раиса Васильева начала писать новую повесть – о детстве ребят питерской рабочей окраины, о своём детстве. Это было так талантливо, так неожиданно и свежо, что первые главы сразу были включены в наш альманах «Костер» и напечатаны во взрослом журнале «Литературный современник» (в 1933–1934 годах). Но закончить книгу Васильевой было не суждено.
Первый удар был нанесен редакции после убийства Кирова: первой была арестована Раиса Васильева. Я помню, как 2 декабря, на следующий день после убийства, она пришла в редакцию, закрыла поплотнее дверь в нашу «тихую» комнату, где обычно работали с авторами, и белыми, как бумага, губами сказала: «Теперь мы все погибли». Но даже она не догадывалась, какая предуготовлена всем судьба. А потом был арестован Г. Белых, соавтор знаменитой «Республики ШКИД», написанной вместе с Л. Пантелеевым. Приближался 37-й год. В 1936-м мне вдруг объявили строгий выговор за срыв трёхтомника Пушкина, хотя он вышел почти в срок и получил «Гран при» в Париже. Весной 37-го были арестованы редактор К. Шавров и писатель Тэки Одулок. Т. Габбе была отстранена от обязанности заместителя ответственного редактора журнала «Костер» – уже с майского номера за 1937 год на журнале нет её подписи. Сохранились листки из дневника Сергея Константиновича Безбородова, подобранные после его ареста среди разорванных при обыске рукописей. Запись от 12 мая 1937 года как нельзя лучше передаёт атмосферу в издательстве в те дни. Вот что поверяет он своему дневнику:
Вчера в клубе писателей был вечер Ираклия Андроникова...[1] На вечере была Лида Чуковская[2], Митя Бронштейн[3], Шура[4] и другие работники Детиздата... Лида рассказала, что Мильчика[5] у неё отняли. Дело в том, что с 1/2 месяца назад Митя послал Криволапову[6] письмо о том, что расторгает с Лендетиздатом все свои договора и просит сообщить ему, какова его задолженность. Ответа, конечно, не последовало. И вот 10-го, что ли, он взял трубку и позвонил Криволапову сам. Почему, мол, мне на моё письмо никто ничего не отвечает. Криволапов осведомился, почему, собственно, Митя расторгает договора. Тот ответил, что возмущён травлей Лиды и ещё некоторых работников Детиздата, находит постановку работы в Лендетиздате отвратительной, поведение руководства недостойным и недобросовестным и до тех пор, пока это поведение и эта политика не будет решительно изменена, он в Детское изд-во не вернется. «Но не могу же я, – ответил Криволапов, – ради мнений отдельных писателей менять всю линию поведения изд-ва». – «Да, конечно, – согласился Митя, – но зато я могу выбирать учреждения, в которых мне приятно и выносимо работать». На этом разговор закончился, а через 20 минут Лиде позвонил Светлов[7] и сказал от имени Мишкевича[8], чтобы она сдала все материалы по книжке Мильчика в редакцию. Книгу будет вести другой редактор.
Летом арестовали поэта и сотрудника журнала «Чиж» Н. Олейникова, потом М. Бронштейна. А в ночь с 4 на 5 сентября 1937 года были сразу арестованы писатели С. Безбородов, Н. Константинов, директор Дома детской литературы при Детиздате А. Серебрянников, редакторы Т. Габбе и я. Немного позже арестовали писателя И. Мильчика и бывшего редактора «Чижа» М. Майслера, ещё позже – поэтов Н. Заболоцкого, А. Введенского и Д. Хармса.
Редакторов, наиболее тесно связанных с арестованными, – З. Задунайскую, А. Освенскую и Р. Брауде – уволили «по собственному желанию» в тот же день, 5 сентября, едва они пришли в издательство. Редакция была разгромлена. Маршака в те дни в Ленинграде не было. Он вернулся из отпуска к страшной беде – гибель редакции, его любимого дела; гибель его учеников и друзей, доверивших ему – как он сам потом писал – свою судьбу; предательство и клевета других, тоже его учеников. Самого Маршака «не тронули», но никто не мог бы сказать, что за этим кроется.
Почти все, о ком я здесь говорю, погибли. Спустя больше чем полвека мы узнаём страшные даты их гибели. Но еще не все.
24 ноября 1937 года, в один и тот же день, были расстреляны Сергей Константинович Безбородов, Николай Макарович Олейников, Н. Константинов (его настоящее имя Константин Николаевич Боголюбов), Абрам Борисович Серебрянников. В своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын рассказывает, в какой тесноте ждали приговорённые своего конца. Может быть, и они встретились в этой смертной камере? О чём они говорили? О чём молчали? Как прошли свои последние шаги? Уже не узнать. И страшно об этом думать.
18 февраля 1938 года был расстрелян Матвей Петрович Бронштейн. 14 августа 1938 года от туберкулёза погиб в тюрьме Григорий Георгиевич Белых. 20 сентября 1938 года был расстрелян Исай Исаевич Мильчик. 8 января 1938 года был осужден на 10 лет лагерей Кирилл Борисович Шавров – он умер в лагере. В тот же день – 8 января 1938 года – был приговорен к высшей мере наказания и вскоре расстрелян Тэки Одулок (его русское имя Николай Иванович Спиридонов). Долгие годы провел в лагере Николай Алексеевич Заболоцкий. Погибли в тюрьме Александр Иванович Введенский и Даниил Иванович Хармс (его настоящая фамилия Ювачёв).
Раиса Родионовна Васильева два года пробыла в одиночном заключении в Суздальском политизоляторе, а потом была отправлена в Воркуту. Там она и ещё сто человек взбунтовались против того, что их, 58-ю статью, посылали на самые губительные работы, в сущности – на смерть. И они объявили голодовку. Тогда начальство собрало колонну – уже в тысячу человек, среди них была и Васильева, – и под конвоем погнало на «другую точку», на Кирпичный завод. По дороге всю колонну расстреляли из пулеметов. Это было в 1938 году. Об этой акции пишет Солженицын в «Архипелаге». Слышала и я о ней от тех, кто попал в Воркуту позже и остался в живых.
Книги осуждённых, расстрелянных или замученных в тюрьме сразу оказались под запретом. Их имена всюду вычеркивались. Словосочетание «редакция Маршака», «школа Маршака» считалось чуть ли не крамолой.
В конце августа 37-го года мы с Тамарой Григорьевной Габбе[9] возвращались из отпуска. На вокзале нас встретила Лида Чуковская. Первое, что она сказала: «Митя арестован».
На следующий день, когда я пришла в редакцию, директор издательства Л. Я. Криволапов стал настойчиво интересоваться – не собираюсь ли я в Москву. Ведь надо начать готовить второе издание Пушкинского трёхтомника, а С. М. Бонди хотел внести какие-то поправки в комментарий. «Нет, сейчас не могу ехать», – сказала я, сославшись на болезнь матери.
4 сентября он снова вызвал меня. «Так вы не поедете в Москву?» – «Нет, – сказала я, – сейчас не поеду. Сначала ведь и с Бонди надо сговориться»...
Столько странного было в этот последний день!
У меня дома хранились письма Раи Васильевой и её рукопись «Фабричные – заво¢дские». Перед отправкой в Суздальский политизолятор ей дали свидание со мной. Рая сказала, что ей разрешили со мной переписку и просила хоть как-то позаботиться о сыне, которого возьмёт к себе Раина сестра. Держалась Рая спокойно и только, обняв меня на прощанье, шепнула страшные слова: «Я повешусь»...
Пока она отбывала срок в Суздальском политизоляторе, она продолжала писать свою повесть о детстве и по страничкам пересылала мне вместе с письмами.
Конечно, вся переписка, дозволенная Большим Домом, была под наблюдением. И, конечно, всякому было ясно, что я не отношусь к Васильевой, как к врагу народа, что я верю ей, люблю и надеюсь, что «все образуется».
Но почему-то в этот несчастный день 4 сентября, из осторожности, я решила перенести рукопись Васильевой из дома в редакцию. «Потом, – думала я, – обсудим, где её лучше хранить»... И всё равно рукопись пропала. Бог знает, кому она попала в руки, кто её уничтожил или отнёс прямо в Большой дом.
В тот же роковой день ко мне в редакцию пришла Лида Чуковская. «У меня к тебе большая просьба, – сказала она. – Мы все висим на волоске. Митя арестован, значит, со дня на день придут за мной. Это ведь известно – арестован муж, арестовывают и жену. Я прошу тебя взять к себе Люшу. Конечно, Корней Иванович будет тебе помогать, Цезарь[10] будет, как и теперь, приходить к ней, но я хотела бы, чтобы она жила у тебя. Ты согласна?» – «Ну, конечно, согласна», – сказала я. И она передала мне письмо Цезарю Самойловичу Вольпе, а я положила его в свою сумочку. Письмо так и начиналось: Митю арестовали, не сегодня-завтра арестуют меня, выполни мою волю...
Знали бы мы, что это письмо через несколько часов попадет прямо в руки НКВД!
Звонок в дверь раздался после двенадцати ночи. Все мы каждый день ждали этого звонка. Я подошла к двери и спросила – кто там? «Это я, Семён», – ответил наш дворник. Я открыла дверь – действительно, он. «В нижней квартире жалуются, что у них протечка, заливает их». Я пошла посмотрела – в ванной, на кухне. «Нет, – говорю, – у нас всё в порядке». – «Ну извините», – и ушёл. А я уже понимала, что всё это не к добру. И дело вовсе не в протечках. Надо что-то придумать с письмами, с фотографиями. Но что? Минут через десять опять звонок. «Кто там?» – «Это опять я, Семён». Я снова открыла дверь. Стоит смущённый Семен (хороший он был мужик и хороший дворник), а за ним двое: один в штатском, другой – солдат с винтовкой. Тот, что в штатском, протянул мне какую-то бумажку. «Любарская Александра Иосифовна – это вы? Вот ордер на ваш арест». Я смотрела на ордер, как будто читаю его, но не видела ни одного слова. «Ну что ж, проходите в мою комнату», – проговорила я. А сама пошла к отцу и сказала: «За мной пришли. Предупреди маму».
Тем временем в моей комнате вовсю шёл обыск. У меня было довольно много книг и, кроме того, в моей комнате стоял книжный шкаф моей покойной сестры, умершей в 1929 году. В 20-е годы, когда она училась в Университете на общественно-экономическом факультете, книги Троцкого не были запрещённой литературой, но позже мы с отцом произвели ревизию её книжного шкафа. А одну книжку оставили – то ли проглядели, то ли пожалели. Это была книга Троцкого о Ленине. И вот у меня, в 1937 году, в разгар борьбы с «врагами народа», находят книгу Троцкого, переписку с осужд2нной Васильевой и письмо Лидии Чуковской, в котором она – чёрным по белому – пишет, что её должны арестовать.
Обыск окончился утром, когда было уже светло. Тот, что в штатском, спросил: «Где у вас телефон?» И стал звонить – очевидно, в Большой дом: «Пришлите машину, я на Большой Разночинной, 3... Не могу я на трамвае... Я не один, я с объектом... Ну ладно...» И, обращаясь ко мне, сказал: «Идёмте».
Мама сунула мне наскоро собранные вещи – полотенце, зубную щётку, мыло, вязаную кофточку и что-то ещё. Когда я прощалась с отцом, он шепнул: «Скажи, что книга моя...» Я только замотала головой. «Боже мой, – подумала я, – неужели я потяну за собой ещё их»...
И вот мы вышли из дому: впереди я – «объект» – и два сопровождающих. Они шли позади меня на почтительном расстоянии, вероятно, чтобы не обращать внимания прохожих на это шествие. Ощущение какой-то нереальности происходящего не оставляло меня. Как будто всё это происходит не со мной. Почему-то я покорно иду... Словно не понимаю, что иду в тюрьму... И я уже не человек, а «объект»... Около трамвайной остановки – на углу Введенской улицы и Большого проспекта – мне подали знак: садитесь в трамвай. Трамвай довёз нас почти до Большого дома. И только когда мы свернули за угол на улицу Воинова (шли всё в том же порядке: я впереди, они шагов на пять позади), «штатский» быстро подошёл ко мне и произнёс: «У ворот остановитесь». Он нажал какую-то кнопку в стене, железные ворота распахнулись и со скрежетом сомкнулись за моей спиной. Всё. Я в тюрьме.
Первый человек, которого я увидела в помещении, куда свозили весь улов этой ночи, была Тамара Григорьевна Габбе – Туся, с которой ещё вчера мы обсуждали какие-то редакционные дела. Мы бросились друг к другу в объятия и обе смеясь воскликнули: «И вы тут!» Нас развели по разным камерам, но, говорят, что свидетельницы этой встречи долго вспоминали е»: «Подумайте только, две молодые женщины со смехом бросились в тюрьме друг к другу!» Смех этот был не очень весёлый. Просто мы поняли, что то, чего мы опасались и ежедневно ждали, от чего нельзя было спрятаться – уже случилось. Всё это уже позади. Что впереди, мы ещё не знали.
А на воле события развивались своим чередом. 4 октября в издательстве вышла стенгазета под названием «За детскую книгу». Правильнее было бы назвать её: «За уничтожение детской книги». «Добить врага!», «Повысим революционную бдительность!» – взывали заголовки статей. «Как могло случиться, – вопрошала передовая, – что детская литература фактически была сдана на откуп группе антисоветских, морально разложившихся людей?» Не обошлось и без обязательного признания своих ошибок: «Руководство издательством – директор тов. Криволапов и главный редактор тов. Мишкевич – вместе со всей партийной организацией несут полную ответственность за то, что враги народа, контрреволюционная сущность которых выяснилась уже в начале года, могли продержаться в издательстве до последнего времени, до изъятия их органами НКВД. Партийная организация, выносившая совершенно правильные решения о необходимости удаления Габбе, Любарской и др. из издательства, действовала недостаточно решительно и не довела дело до конца». Авторы статей не жалели красок для каждого из нас. Шпионы, диверсанты, террористы и просто подонки – вот, оказывается, кто «окопался» в Лендетиздате. «Контрреволюционная вредительская шайка врагов народа»; «шпионы фашистов»; «троцкистско-бухаринские бандиты»; «проходимец Шавров»; «ставленник шпиона Файнберга – Олейников»; «пользующаяся особым покровительством» того же шпиона Файнберга и известная связью с «проходимцем Безбородовым» «морально разложившаяся Любарская»; Чуковская, «протаскивающая в книгах контрреволюционные высказывания»; Боголюбов, «диверсионной выходкой» задержавший в печати книгу Миклухо-Маклая – это они организовали травлю «честного советского человека, тов. Сасовой, которая осмелилась приподнять завесу над тёмными делами Любарской и других» (то есть писала на всех доносы). Л. Чуковская не была арестована, – может быть, потому, что с начала 1937 года она перешла на положение внештатного редактора. А может быть потому, что шпионоразвёрстку применительно к Лендетиздату выполнили, не дойдя до буквы «Ч». Не был арестован и М. Майслер. Но в стенгазете имена Л. Чуковской и М. Майслера постоянно упоминаются в одном ряду с уже арестованными и тем самым разоблачёнными врагами народа и шпионами. Шпионы и диверсанты, как сообщает газета, «объединялись вокруг Габбе, Любарской, Чуковской». Имена «Чуковская – Майслер» соединены через тире в одно общее понятие: враги народа. И действительно, М. Майслера вскоре арестовали, а Л. Чуковская по счастливой случайности спаслась.
Особое место в стенгазете занимает статья Льва Успенского. Лев Успенский – писатель, человек, что называется, интеллигентный, поэтому и статья его называется интеллигентно: «Несколько слов о “теории литературы”». Бросив небрежные слова о «группе вредителей, которая плодила гигантский политический брак», он переходит к чисто литературной оценке работы редакции. И тут, вместо привычных «шпионы», «фашистские ставленники» и так далее и тому подобное, появляются оценки литературные: «профаны», на совести которых «горы бездарных, скучных, дурного вкуса книг, стоящих вне литературы». Он не называет имён профанов, ограничиваясь словами – «эти люди», «упомянутая группа», или просто «группка». Точность его не интересует, он не стесняясь искажает даже пушкинские строки и не заботится об элементарной грамотности своих высказываний. Он потешается над работой редакторов, чуть не загубивших рукопись Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Но ему невдомёк даже то, что это происходило совсем в другой – московской – редакции[11]. А ведь Успенский знал, не мог не знать, что участвует в убийстве.
Детиздатовская машинистка, Наталья Ивановна, – да простится мне, что я забыла её фамилию, – печатая статьи для стенгазеты, сделала лишнюю копию и тайком передала её Лидии Корнеевне. Теперь эта копия хранится у меня[12].
Первый допрос был на третий или четвёртый день моей тюремной жизни. Его и допросом-то не назовёшь. Только анкета: «Где вы работали? С какого времени? Где работает ваш отец? Назовите ваших знакомых». И всё в таком роде. В чём я обвиняюсь, почему арестована – ни слова. О переписке с Раисой Васильевой, о книге Троцкого, о письме Лидии Чуковской – ни слова. Больше всего меня мучило письмо Лиды Чуковской. От переписки с Раей я не откажусь – вот они, письма. От книги Троцкого тоже нелепо отказываться – вот она, запретная книга. Но что сказать о письме Лидии Чуковской, которая прямо пишет, что её должны арестовать? В ожидании допроса, я без конца ломала себе голову – что сказать? А следователь, ни о чём больше не спрашивая, дал мне подписать анкетный лист и отправил в камеру. Почти месяц я прожила в тревоге и ожидании нового допроса. Очевидно, следователь в это время был занят «творческой работой», то есть сочинял мое «дело». 14 октября, вероятно по его распоряжению, меня перевели на Арсенальную, в другую тюрьму – в «Кресты». Пока шёл «творческий процесс», незачем было занимать место в переполненной общей камере (в ней было метров 20, а я вошла туда 87-я!).
Вечером 4 ноября – через два месяца после ареста! – меня вернули из «Крестов» в Большой дом. Так как транспорта для заключённых не хватало, в той же машине находился ещё один арестованный. Я запомнила только его имя. Это был поляк, его звали Сигизмунд. Увидев, что в тот же «чёрный ворон» (так называли и в тюрьме и на воле эти машины) втолкнули молодую женщину, он, вероятно, подумал, что я ещё не знаю всего, что происходит в Большом доме. На каждом повороте, чуть только машина взревёт, он наклонялся ко мне и торопливо говорил: «Имейте в виду – всё провокация. Ничему не верьте. Все обвинения – ложь». Я благодарна ему на всю жизнь. А фамилию его спросить не успела.
«Чёрный ворон» устроен очень хитро: кузов – высоко, между выходом и землей маленькая подвесная ступенька. Когда меня увозили из «Крестов», было ещё светло, и ступеньку я заметила, а когда выходила в тюремном дворе, просто шагнула, и всем лицом, всем телом – пластом грянула на асфальт. Мне казалось, что я вся в крови. Провела рукой по лицу – нет, рука сухая. Сигизмунд хотел помочь мне подняться, но охранник гаркнул, словно отрезал: «От-ставить, сама поднимется”. Сигизмунд хотел подать мне мешочек с вещами, но его остановил тот же окрик: “От-ставить, сама возьмёт». И нас повели врозь.
Меня привели в какое-то помещение, вероятно, комендатуру, и посадили на скамейку у стены. Через минуту открылась другая дверь, и в эту же комендатуру ввели Сергея Константиновича Безбородова. В тюрьме строго следят, чтобы арестованные не встречались. Чуть что и окрик: «Лицом к стене, лицом к стене». А тут вдруг встреча – лицом к лицу. В глазах Сергея Константиновича был ужас – оттого, что я тоже тут, в кровоподтеках от лба до подбородка – и в то же время радость – оттого, что мы увиделись ещё раз. И с этой минуты всё, что искалечило счастливые годы нашей совместной жизни, всё это куда-то отошло. Всё это было малостью по сравнению с тюрьмой, с Большим домом, с тем, что, нам обоим ещё предстоит. Он только успел спросить: «А кто ещё из наших?», а я – ответить: «Тамара Григорьевна»... Но тут крик, ругань, угрозы обрушились на нас. И его увели. А меня отправили в «одиночку». Конечно, «одиночка» была не на одного человека, а человек на восемь, десять, иногда и больше – в зависимости от поступления новых «объектов».
В ночь с 10 на 11 ноября меня вызвали к следователю. Это был тот самый щеголеватый молодчик, с наманикюренными ногтями и подкрашенными губами, который два месяца назад заполнял мою анкету. «Следователь Слепнёв», – представился он. На столе перед ним лежала толстенная многостраничная папка – протокол моего допроса, в котором уже всё было написано: и его вопросы, и мои ответы. На каком-то этапе я упираюсь, на каком-то частично соглашаюсь, пока, наконец, не признаюсь в покушении на Сталина или ещё в чём-то подобном. Но главный упор был на шпионаже. Нужны шпионы. Всё равно, в пользу какой страны. Всё равно, кто они – сторож пригородного огорода, или учёный, или литератор, или редактор детских книг, все годятся. «Подписывайте протокол», – сказал Слепнёв, пододвигая ко мне папку. «Нет, я это не подпишу», – сказала я. Слепнёв встал из-за стола и подошёл ко мне вплотную. – “Будете подписывать?” – “Нет”. Он размахнулся и ударил меня по лицу. Дальше допрос шел так: «Подписывайте!» – «Не буду!» Удар. «Подписывайте!» – «Не подпишу!» Удар. «Признавайтесь!» – «Не признаюсь!» Удар. И так час за часом. Рассказывать об этом почти невозможно, невозможно передать меру беспомощности, страха, боли, отвращения... Под утро он отправил меня в камеру. А днём в камере, даже в самом дальнем уголке, не разрешалось даже дремать. Надзирательница мигом обнаруживала это. «Не спать!» – раздавался грубый окрик.
Так продолжалось трое суток. В конце третьей ночи я схватила перо и подписалась на одной странице слепнёвского сочинения. Я не очень вчитывалась в текст, я понимала, что расстрел неминуем, – из этого Дома не выходят. Собрав последние силы, я думала только об одном – нет ли на этой бредовой странице чьих-нибудь имён, кроме моего. Нет, как будто нет. Я одна сама себе и шпион, и террорист. Бросив перо, я сказала: «Делайте со мной что хотите, но больше я ничего не подпишу». Слепнёв ухмыльнулся: «А нам довольно и этого».
За полтора года, что я провела в тюрьме, я хорошо узнала технику следствия. Обвинения строились по принципу наибольшей неправдоподобности. Я видела в тюрьме многие десятки японских, финских, польских, латышских «шпионов», орудовавших в нашем городе. Уже одно это было ошеломляюще неправдоподобно. Разве засылают шпионов толпами? И если даже были настоящие шпионы – нет, не в тюрьме, в тюрьме их не было, а на воле, – им не надо было маскироваться подобно штабс-капитану Рыбникову из знаменитого рассказа Куприна. Они могли жить и делать своё дело спокойно. Ведь все их места в тюрьме были забиты такими же шпионами, как я, и все пули были истрачены для расстрела таких же, как я, шпионов.
Однажды, когда меня вели на допрос, свободного кабинета не было. Меня привели к какому-то начальнику и посадили в дальнем углу его кабинета. Начальник был чем-то озабочен и даже не обратил на меня внимания. Он был крайне недоволен работой следователей, стоявших возле него. «Запомните, – строго произнёс он, – к концу недели у меня на столе должны лежать: 8 показаний финских, 12 – немецких, 7 – латышских, 9 – японских. От кого – неважно». (За точность цифр я сейчас не ручаюсь, но примерно так.)
Так вот оно что! Значит, они работают по заранее составленному плану! У них свой палаческий план, взятый с потолка. И они бились – и били – ради его выполнения.
Удивительные бывают совпадения событий и дат. В этот самый вечер – 11 ноября 1937 года, когда у меня был первый настоящий допрос, в стенах Ленинградского Союза писателей состоялось общее собрание детской секции под председательством Г. Мирошниченко. На этом собрании, хорошо подготовленном стенгазетой, в том же стиле, в тех же выражениях, был вынесен приговор всем арестованным – писателям и редакторам. Нашлись среди учеников Маршака и такие, что с готовностью присоединились к клевете на своего учителя. Особенно отличился Н. Григорьев, всегда считавшийся другом редакции. Во время перерыва он подошел к Л. Пантелееву и, словно потрясённый всем происходящим, сказал: «Одно то, что мы молчим, уже предательство». Пантелеев только кивнул головой. Да и что можно было сказать этим беснующимся, жаждущим крови людям? Перерыв кончился и первое слово взял Н. Григорьев. Но это был как будто другой человек. Он обрушился на Маршака, утверждая, что Маршак собрал около себя группу вредителей, что все они хотели загубить детскую литературу, что для этой цели они собирались у него дома, прикрываясь работой над рукописями и т. д., и т. д. Даже после собрания он посылал Маршаку письма домой с прямыми угрозами и разоблачениями, которые не успел довести до собравшихся[13].
Только три человека на этом собрании не изменили ни себе, ни брошенным в тюрьму товарищам. Это Маршак, ни единым словом не отказавшийся от своих учеников. Это писательница Лидия Будогоская, не побоявшаяся (в разгар репрессий, во времена повальных арестов) крикнуть на весь зал: «Всё это ложь!» Это муж Тамары Григорьевны Габбе – Иосиф Израилевич Гинзбург. Он пришёл на собрание, чтобы защитить меня (жену защищать он не мог) и передал в президиум заявление (указав свой адрес и телефон), в котором обвинял Мирошниченко в лживости и двурушничестве. А в доказательство приложил снимок с титульного листа книги Мирошниченко «Юнармия», где автор в восторженных выражениях благодарит меня за помощь в работе. Мирошниченко встал и произнес в своем излюбленном пышном стиле: «Товарищи, на это собрание проник террорист и бросил бомбу!» Два «молодых человека в штатском» подошли к Иосифу Израилевичу и вытолкали его из Дома писателя.
Но все это я узнала потом, а сейчас была все та же тюрьма.
Однажды к нам в камеру привели пожилую колхозницу. Она нам ничего не рассказывала. Целыми днями тихонько напевала какие-то духовные песни или молитвы. А как-то достала из кармана небольшую бумажку и протянула мне: «Объясни-ка, что это здесь написано?» Я прочла: такая-то с такого-то числа содержится в тюрьме УГБ города Ленинграда. «А что это за УГБ, не пойму я?» – спросила она. – «Это Управление Государственной Безопасности». Бедняга даже руками замахала: «Да ты что! Ведь это и есть самая опасность». Мы посмеялись. Не зря говорится, что смех живёт рядом с трагедией. А сказала она очень точно. Да, тюрьма на улице Воинова, около Большого дома, была самой страшной опасностью.
Внизу, под нашими камерами, находилось какое-то помещение, его называли «медвежатником», – там допрашивали мужчин, если не было свободных кабинетов. По ночам до нас доносились глухие удары – резиновой дубинкой, или плёткой, или жгутом – и тяжёлые сдавленные, что называется душераздирающие, стоны. Потом в камеры проникал запах нашатырного спирта – это приводили в чувство истязуемого. В нашей камере, и во всех соседних, начинали стучать, бить кулаками в дверь, кричать, требовать начальника тюрьмы. Напуганная надзирательница бросалась куда-то звонить: «В камерах неспокойно. Всё слышно. Прекратите». Наступала тишина. Но ненадолго.
Здесь, в тюрьме Большого дома, были со мной в камере две финки – Линда Утриайнен и Анья Пало. Обе наивно верующие в дело коммунизма, члены подпольной финской организации Коминтерна. Обе отсидели положенный по финским законам срок (года два или три) и были освобождены в соответствии с финскими законами. Но наше руководство Коминтерна решило спасти их от дальнейших преследований и переправило через границу в свободный Советский Союз. А потом их арестовали как финских шпионок. Всё это я узнала не сразу. Они рассказывали о себе мало, ещё думая, что произошло какое-то недоразумение. И мы в камере ни о чём их не расспрашивали.
Первый раз я услышала имя Линды Утриайнен, когда её вызвали на допрос. К камере подошла надзирательница и, приоткрыв окошко, спросила: «Кто тут на иностранную букву “фы”?» – «Нет, на иностранную букву “фы” тут никого нет». – «Как это нет. Должна быть». – Мы назвали все наши фамилии – нет, такой нет. Надзирательница ушла куда-то и скоро вернулась. «Утриайнен, на допрос». По неграмотности или по глупости она считала, что все фамилии финок должны начинаться на букву «фы».
Линду допрашивали десять суток подряд. Её не били, пальцем не тронули. Её заставили стоять. Стоять, пока не подпишет протокол о том, что она шпионка, – сочинение следователя, такого же палача, как Слепнёв. На третьи сутки её – отёкшую, едва держащуюся на ногах – привели в камеру, как раз подоспела тюремная баланда. А потом Линду опять увели. Так было ещё раза два. Мы всегда держали наготове миску с горячей водой (наш утренний чай), чтобы укутывать мокрыми тёплыми тряпками распухшие руки и ноги нашей Линды. Когда последний раз она вернулась в камеру, она не могла говорить. У неё отек язык. Только через несколько дней она рассказала нам, что с ней было. Пытка, на которую её обрекли, шла в две смены. Следователи, дежурившие около неё по ночам, старались усилить её физические страдания душевными муками. У Линды была маленькая дочка. Где она, что с ней сделали – Линда не знала. А следователи, развалившись на диване, начинали телефонные разговоры с домочадцами: «Ну как там Леночка? Ты купила ей новую куклу?» Быть может, всё это говорилось, чтобы помучить Линду, в пустоту, по отключенному телефону... Только один, дежуривший около неё днем, пододвинул к ней стул и сказал: «Садитесь». Линда отказалась, она боялась какого-нибудь подвоха – может быть, стул сломанный, она упадет и разобьется. «Сядьте, не бойтесь, – сказал этот странный следователь. – А если услышите шаги в коридоре, станьте там, где стояли». В другой раз он дал ей воды с лимонным соком. В последнее своё дежурство сказал: «Линда, подпишите. Они от вас все равно не отстанут». Но у неё еще были какие-то остатки сил. И только когда начались галлюцинации и ей казалось, что её маленькая дочка, вся в крови, бегает около неё, она подписала – что подписала, не знает.
Когда я рассказываю об этом следователе, мне иногда говорят: «Неужели не ясно, что это была всего только провокация и необычное поведение следователя было одним из “способов давления” на арестованного». Но в словах самой Линды не было и тени такого объяснения. А уж к провокациям у нас у всех было особое чутье. В этом застенке Линда вдруг почувствовала человечность, для которой не было здесь места, услышала человеческий голос – бессильный, беспомощный, бесправный. Но человеческий[14].
Из камеры Линду очень скоро вызвали «с вещами». Куда – никто не знал.
У Аньи Пало путь в счастливую страну Советов был таким же. Она тоже была членом подпольной финской коммунистической партии, её тоже решили спасти от жестокости профашистского режима, переправили через границу и посадили в тюрьму. Она была довольно крупным деятелем финской компартии, и приписать ей шпионаж было тем более заманчиво. Она долго не сдавалась. Ей пытались объяснить, как нужно её признание для процветания и укрепления нашего государства. Но это было так дико, что она не могла это понять. Тогда они стали её жестоко бить. Ей отбили почки. Последний раз она вернулась в камеру едва живая. А на следующий день – «Пало, с вещами». Куда? Можно было только догадываться.
Прошло почти полгода. Суда не было, меня не отправили в лагерь и не расстреляли. А в конце января 1938 года меня опять вызвали к следователю. К тому же Слепнёву. Однако, никакого допроса не было. «Не вздумайте на суде отрицать обвинения, будет хуже», – произнёс он как-то особенно злобно. И отправил меня в камеру. Дней через десять опять вызов к Слепнёву. На этот раз, помахивая передо мной каким-то листком, он посмеиваясь сказал: «Почитайте, полюбуйтесь. Вот и Безбородов признаётся, что и вы, и он состояли в контрреволюционной организации»[15]. Читать я не стала. Я только взглянула на подпись в конце страницы – первые две буквы были ещё похожи на почерк Сергея Константиновича, а дальше буквы прыгали, неровные, кривые, косые, словно писал он во время морской качки. Что они с ним сделали? Что они сделали, чтобы добиться этой подписи? Впрочем, я уже знала, что для этого делают.
На следующий день – или ночь? – опять к следователю. В руках у конвойного – папка. Сверху моя фамилия, а под ней столбиком: передать в 4-й отдел, вернуть в 3-й отдел, передать в прокуратуру ЛВО и т. д. И я поняла, что мое «дело» где-то не приняли к «производству», с ним произошла какая-то заминка. Но раздумывать было некогда, меня уже привели к Слепнёву. Он был сух и немногословен. «Дело передано в суд», – произнёс он. Я промолчала. И меня снова повели в камеру.
За всё время, что я просидела в тюрьме, меня много раз переводили из камеры в камеру, вероятно, в зависимости от того, из какого отдела в какой перебрасывали мое «дело». В одну из камер к нам привели жену адмирала Балтфлота – Елену Павловну Сивкову. Муж её был расстрелян. Вождь всех времён и народов рассудил, что людей такого ранга и опыта надо истреблять ради процветания Советского государства и его военно-морской мощи.
Для Елены Павловны не придумывали особого «дела». «Жена расстрелянного» – это была как бы самостоятельная часть 58-й статьи Уголовного кодекса того времени.
Елена Павловна была со мной в одной камере недолго, но мы как-то сразу поняли, что говорим на одном языке.
В эти же дни, в эту же камеру привели Клавдию Васильевну Алякринскую, жену контр-адмирала Балтфлота. Тоже расстрелянного. Обе женщины хорошо знали друг друга. Это была встреча двух – из многих миллионов – искалеченных судеб.
Алякринскую увели из нашей камеры через несколько дней. Очень скоро вызвали «с вещами» и Сивкову. Прощаясь со мной, она сказала: «Если вы когда-нибудь окажетесь на свободе, не позвольте вашему сердцу смягчиться»...
А ещё через несколько дней меня опять перевели в «Кресты».
Потянулись томительные дни, недели, месяцы ожидания и неизвестности. Следствие закончено. «Дело» передано в суд. Что ждёт меня? Где все близкие? Что с ними? Живы ли они? И мои «невольные подруги» думали о том же[16]. Только в своих снах мы искали ответы на всё, о чём думали целыми днями. В нашей камере была одно время толковательница снов. Однажды её соседка по нарам, словно думая вслух, сказала: «А я видела во сне вошь. Она ползла к двери. Может, меня выпустят?..» Но наша гадалка оборвала ее: «Вошь и есть вошь, что наяву, что во сне. От неё доброго не жди».
Примерно раз в месяц, сидящим в «Крестах», давали бумагу и карандаш – писать заявления. И я строчила и строчила – на имя начальника 3-го («моего»!) отдела, на имя прокурора ЛВО, на имя начальника УНКВД – всё об одном и том же: о протоколе, сочинённом следователем Слепнёвым, о его допросах. Я уже хорошо знала, что ещё более страшные допросы здесь узаконены, стали обязательной нормой. Да и как иначе создать несметную армию «врагов народа» и «шпионов»! Но ведь не может же быть, чтобы тысячи прокуроров всех рангов, рассматривая (вернее, не глядя утверждая) сотни тысяч фантастических протоколов, не сделали бы ни одному следователю ни одного замечания. Ведь за «надзор» за следственными делами они получали большую зарплату, пайки, привилегии. Ради одного этого в каком-нибудь из тысячи тысяч дел надо было обнаружить хоть какое-то нарушение «следственного процесса». Какое дело – не существенно, кто обвиняется – всё равно... Так, может быть, этот сумасшедший выигрыш, словно в рулетку, достался мне?.. Но, конечно, это были «пустые надежды», как сказала бы наша гадалка.
Прошло почти два месяца, и вдруг меня вызывают – в «Кресты» приехал прокурор Дмитриев. Его сопровождал новый следователь – Трухин. Допрос был странный. О шпионаже, терроре, вредительстве они словно забыли, или вообще не знали. Я попыталась сказать хоть что-то о Слепнёве и его допросах, но мне ответили как-то неопределенно: «Его теперь нет». Что это значит? Его уволили? Или перевели на более высокую должность? Зачем эти двое приехали? А может быть, это нужно для того, чтобы поставить «галочку» – на заявление такой-то отвечено.
Прошло ещё полгода. Легко сказать – полгода! А ведь каждый день, как пытка – духотой, теснотой, грязью. И на кого ни взглянешь, у всех в глазах горе и страх.
Уже началась зима, вторая моя зима в тюрьме, когда меня опять вызвали – на этот раз пожаловал прокурор ЛВО Шмулевич и с ним опять Трухин. И снова та же невнятность – зачем? для чего? И опять о Слепнёве ни слова.
Поздним декабрьским вечером 1938 года в дверях камеры появилась дежурная: «Любарская, с вещами». Куда теперь? Может быть, меня везут в пересыльную? Или на суд? Или на расстрел?
Меня привезли опять на улицу Воинова, в камеру № 14. Женщины потеснились и дали мне место на тюфяке, брошенном на пол.
Я уже давно знала: самое страшное время в тюрьме – это ночь. Ночью вызывали на допрос. Никто не спал после отбоя «ко сну». Все в камерах прислушивались – когда раздадутся шаги конвойного, около какой камеры остановятся? Потом – скрежет отпирающейся и запирающейся двери. Значит, кого-то увели на допрос. И снова ждёшь – кто следующий? И вот наступила ночь, проведённая, как всегда, в страхе ожидания. Но за всю ночь ни разу не слышны были шаги конвойных и звук открывающихся дверей в камерах. И на следующую ночь была та же тишина. Так прошло несколько ночей – в тишине и неизвестности. «Весна в НКВД», – говорили мы, хотя был холодный декабрь. Мы гадали – наверное, умер Сталин.
30 декабря, перед новым 39-м годом, среди бела дня меня вызвали: «На допрос. Быстро!». Меня повели по каким-то коридорам, устланным ковровыми дорожками. В большой комнате, очевидно приёмной, толпились следователи. Тут они были тише воды, ниже травы, переговаривались вполголоса, не смея нарушать тишину. Тут был и Трухин. Он подошел ко мне. «Пойдёмте», – сказал он и повёл меня к таинственной двери в глубине приёмной.
В огромном кабинете – чуть ли не с Дворцовую площадь – за огромным столом сидел человек, похожий на грузина. Это был Гоглидзе, как я узнала позже, – начальник управления НКВД по Ленинграду. Трухин пододвинул мне стул, я села.
«Мне передали ваше дело, – сказал Гоглидзе. – Я хотел бы в нём разобраться. Вот, например, Мирошниченко пишет, что вы вредительски уводили его от правильного освещения гражданской войны. Что вы можете сказать по этому поводу?» – Трудно вспоминать о работе с автором после почти полутора лет в тюрьме. Я сказала: «Судить о моей работе с Мирошниченко лучше всего по надписи, которую он сделал мне, когда книга вышла – “сердечная благодарность за помощь”, “никогда не забуду” и тому подобное. От избытка чувств он даже перешел на “ты”, словно это надпись на могильном памятнике... Кстати, книгу его, “Юнармию”, которую я вредительски редактировала, хвалил Ромен Роллан», – добавила я.
Гоглидзе отложил какой-то листок и взял другой. «Вот здесь писатель Вальде сообщает, что вы всячески ущемляли его интересы, когда дело касалось гонорара. Что вы скажете об этом?» – «По этому поводу, – сказала я, – надо обратиться в бухгалтерию Детиздата, и посмотреть, сколько раз по моей просьбе ему выплачивали внеплановые авансы. Я объясняла – и директору и главному бухгалтеру – что он очень нуждается, у него маленький ребёнок, книга получается, надо ему помочь. А когда книга вышла, он подарил мне её (тоже с благодарственной надписью!) и сказал: “То, что я написал на книге, мало что выражает. А я хочу, чтобы вы знали: если когда-нибудь с вами случится беда, я буду рядом, чтобы защитить вас”. Вот он и был рядом, и написал донос. Защитил...».
«А что вы скажете о Григорьеве?» – Я усмехнулась: «Конечно, я и ему мешала работать. Но разрешите мне на вопрос ответить вопросом: он закончил книгу о ГОЭЛРО, которую я старалась загубить? Ведь я ему не мешаю уже полтора года. Судя по вашему молчанию, она не получилась у него. А отвечать за это должна я. Удобная позиция. Тем более, что я в тюрьме». – «Да, вы, пожалуй, правы», – согласился Гоглидзе.
«Теперь ещё один вопрос – что произошло с изданием Пушкина? Ваше руководство сообщает, что вам был объявлен строгий выговор за срыв Пушкинского трёхтомника». – «Да, строгий выговор был, – сказала я, – а срыва издания не было. В плане стоял однотомник, а решили издать – к столетию гибели Пушкина – трёхтомник. А три – это не один. Мы привлекли для комментария лучших пушкинистов и историков – Бориса Викторовича Томашевского, Сергея Михайловича Бонди, академика Евгения Викторовича Тарле. О выговоре вам услужливо сообщили (как же, известная вредительница), а про то, что через несколько месяцев меня премировали за отличную работу, умолчали. От премии я тогда отказалась. Одно из двух – или премия или выговор. Трёхтомник получил “Гран при” в Париже, а я – тюрьму в Ленинграде».
Гоглидзе молча слушал меня. Потом сказал: «Мы всё проверим. Если ваши показания подтвердятся, вас освободят. И мы должны будем перед вами извиниться». (Подумать только – извиниться! Словно меня на почте или в магазине заставили ждать лишних пятнадцать минут!) Напоследок Гоглидзе спросил, в каких условиях я нахожусь, и нет ли у меня просьб. «Есть, – ответила я. – Я прошу, чтобы следствие, наконец, закончили. А условия у меня обыкновенные, тюремные (как будто он сам не знал, что это за условия). Других просьб у меня нет». И меня увели в камеру.
Мои тюремные подруги слушали меня, раскрыв рот. «Это всё – к освобождению. Радоваться надо», – говорили они. Я и сама начинала так думать. Но что будет с ними?.. Так могу ли я радоваться?
А тюрьма оставалась тюрьмой. И постепенно возникала мысль, что все эти мирные допросы – очередная провокация. Так прошло десять дней. И вдруг опять: «Любарская, на допрос». Меня привели к Трухину. Ведь Гоглидзе ничего не записывал, а «дело» требует протокола «по форме». И началось всё с начала: Мирошниченко, Вальде, Григорьев. Возник и Золотовский, с которым я никогда не работала. А ему было всё равно на кого «давать показания» – на меня, так на меня.
Допрос – или разговор? – шёл долго. Трухин спрашивал, я отвечала, он записывал, я перечитывала и подписывала. Время от времени Трухин осведомлялся – не устала ли я, предлагал чай с бутербродами. Но я отказалась. – «Потому что наши?» – «Да, потому что ваши».
В камеру я вернулась подавленная этим топтанием на месте. А через три дня – 13 января 1939 года – поздно вечером мне велели приготовиться «с вещами». Это означало только одно – или пересыльная тюрьма и лагерь, или расстрел. Я просидела всю ночь возле двери, но за мной так и не пришли. А днём снова – к следователю. Я шла, и в голове стучала только одна мысль: не испугаться, что бы ни было – не испугаться, не показать этим нелюдям, что мне страшно. И когда следователь произнес: «Товарищ Любарская, мы вас освобождаем», я не шевельнулась, не обрадовалась, словно не слышала непривычного в этих стенах слова «товарищ», а всё твердила про себя – не испугаться, не испугаться, не показать виду, что мне страшно.
Он снова повторил, что меня освобождают, пододвинул ко мне телефон и сказал: «Позвоните домой, предупредите, что часа через полтора, когда оформят документы, вы будете освобождены».
Я набрала номер нашего телефона и неестественным голосом, будто я говорю из фойе кинотеатра, сказала маме: «Я скоро буду дома, часа через полтора...».
Следователь вызвал конвойного и снова сказал: «Проводите товарищ Любарскую в камеру за вещами». Конвойным запрещается разговаривать с теми, кого они сопровождают. Но что означают слова следователя «товарищ Любарская», он понял сразу. И на одном из поворотов внутреннего перехода, ведущего из Большого дома в тюрьму, тихо спросил меня: «И долго вы здесь находились?» – «Почти полтора года», – ответила я. «Значит всё это зря?» – не удержался он. «Да, всё зря, как и со всеми остальными», – сказала я.
Надзирательница уже ждала меня около открытой камеры и не отходила, пока я собирала вещи. «Никаких разговоров, ничего ни от кого не брать», – строго предупредила она. Обнимаясь с теми, кто оставался здесь, я едва сдерживалась от слёз и слышала от них самые добрые слова прощания.
И меня увели.
Зимним вечером 1939 года я вышла из тюремных ворот и, как в сентябре 1937-го, они с грохотом закрылись за мной. Сыпал мелкий снежок, прохожие о чем-то беспечно разговаривали, а я стояла и не понимала – что же мне делать? Как попасть домой?
В это время от дома напротив отделилась какая-то тень, и ко мне бросился – я уже успела разглядеть лицо – Иосиф Израилевич Гинзбург, муж Тамары Григорьевны Габбе. С той минуты, когда стало известно, что меня освобождают, он пришел сюда и ждал, когда откроются ворота и я выйду. А на углу улицы Воинова и Литейного, в такси, меня ждали мама и моя подруга со школьных дней – Ольга Константиновна Невзглядова.
Так я оказалась на свободе.
Конечно, помогли этому Маршак и Чуковский. И Самуил Яковлевич, и Корней Иванович понимали, что настало время и, наверное, недолгое, когда можно хлопотать за кого-то, доказывать, объяснять[17]. И путь у них был один – к Генеральному прокурору Советского Союза, то есть к Вышинскому.
До сих пор Вышинский с успехом ставил судебные спектакли, в последнем действии которых был расстрел. Теперь, зимой 1939 года, – на какое-то недолгое время – он разыгрывал спектакли, где справедливость торжествовала. Маршак и Чуковский добились приёма у него. И вот два замечательных писателя, два интеллигента, ничего не знающие ни про какой шпионаж, пришли к Вышинскому. Они даже не очень представляли себе, о чём говорить. Маршак рассказывал, какой у меня замечательный отец, Чуковский рассказывал, как прекрасно я выступала на совещании по детской литературе в ЦК Комсомола, оба расхваливали трёхтомник Пушкина, который я редактировала. Вышинский выслушал их, потом снял телефонную трубку – очевидно, это была прямая связь с Большим домом в Ленинграде – и произнёс странные слова: «У вас там находится Любарская, Александра Иосифовна. Примените к ней статью 161-ю».
Маршак и Чуковский были в отчаяньи – что же это, одну статью сняли, а другую дали? Но Вышинский снисходительно сказал: «Не беспокойтесь, на нашем языке это означает, что она должна быть освобождена».
А через несколько дней Вышинский, собственной персоной, позвонил в санаторий, где был Корней Иванович, и сказал: «Мы вашу Любарскую освободили».
Только двое из всех – я и Тамара Григорьевна Габбе – вышли на волю.
Я уже знала, что освободили её давно, в конце 37-го. Как такое могло случиться, я не задумывалась. Но слава богу, что случилось.
На другой день после возвращения я пошла к ней. Мы обнялись, но теперь не засмеялись, как тогда, встретившись в тюремном помещении полтора года назад. Она повела меня в свою комнату, и мне всё казалось чудом – и она сама, и то, что мы снова вместе, и бронзовый Будда на её бюро. К нам пришли её мать и отчим, давно заменивший в семье рано умершего отца и всеми любимый.
Чуть не плача, они поздравляли меня, а Тусина мать всё повторяла: «Какое счастье! Какое счастье!» Они были с нами недолго, понимая, что нам надо побыть вдвоем. «А помните, Александрина, – сказала Туся (так она часто меня называла), – я всегда говорила, что нам с вами судьба режет от одной краюшки – мне ломоть, вам ломоть. Только на этот раз вам достался ломоть с очень уж жёсткой коркой».
Мы долго разговаривали. Больше говорила я, пока не раздался звук хлопнувшей входной двери. Это пришел домой Тусин брат. «При нем ни о чём не рассказывайте», – предупредила меня Туся.
Какое-то смутное чувство охватило меня, но я промолчала.
Через несколько дней я снова была у Туси. Она позвала меня в столовую, попить чаю. Иосиф Израилевич тоже был дома. Разговор шёл о разном, только не о тюрьме. И вдруг Тусина мать, без всякого повода, словно отвечая своим мыслям, сказала: «И в кого это наш Миша таким уродился».
Значит, я не ошиблась. Был ли он каким-то сотрудником Большого дома? А может быть, «вольнонаемным»? Или сотрудником спецотдела завода, где он работал? Не знаю. И никогда об этом не расспрашивала ни Тусю, ни её мужа. Одно могу сказать – за то, что он спас её, ему зачтется на том свете[18].
Как давно всё это было. А я снова и снова возвращаюсь в то далекое прошлое. Я вспоминаю, как однажды – это было в конце 39-го или начале 40-го года, уже после моего освобождения, рассказывая Лидии Корнеевне Чуковской о тюрьме, я сказала: «Мне хотелось бы, чтобы об этом времени написал поэт. Будет написано много – и проза, и воспоминания, сохранятся дневники. Может быть, и я что-нибудь сумею... Но мне кажется, что только в слове поэта люди ощутят тот смертоносный воздух, которым дышали мы в 37-м...» Лида остановила меня: «Это слово уже сказано». И прочла мне наизусть «Реквием» Анны Ахматовой. Тогда его даже записывать было нельзя.
И вот прошло полвека. Выросло не одно поколение людей, для которых 37-й год (длившийся ещё много лет) – только цифра в быстротекущем времени. Был когда-то Нерон, был Иван Грозный, был Сталин. Зачем вспоминать то, что было? Зачем снова об этом говорить?
Нет, надо помнить. Надо говорить.
Словно в театре ужасов, я видела, как буйствует закон беззакония, как создаются средства массового уничтожения людей – без всяких атомных бомб. Создаются теми, кого в древности называли «Homo sapiens».
И так же, как пепел Клааса стучит в сердце Тиля Уленшпигеля, так и в моей душе всегда звучат сказанные мне прощальные слова: «Если вы когда-нибудь окажетесь на свободе, не позвольте вашему сердцу смягчиться».
Нет, не позволю. Никогда.
* * *
[1] Андроников Ираклий Луарсабович – литературовед, особенно известен устными рассказами, изображающими писателей, музыкантов, ученых.
[2] Чуковская Лидия Корнеевна – одна из первых редакторов Маршаковской редакции.
[3] Бронштейн Матвей Петрович – физик, автор научно-художественных книг для детей. (Муж Л. К. Чуковской.)
[4] Любарская Александра Иосифовна – многолетний редактор Маршаковской редакции.
[5] Мильчик Исай Исаевич – автор, с которым работала Л. К. Чуковская. Рукопись Мильчика “Степкино детство” удалось сохранить его жене, и только в 1966 г. она была напечатана в издательстве “Детская литература”.
[6] Криволапов Леонид Яковлевич – директор Лендетиздата с конца 1936 г.
[7] Светлов Ефим – заведующий редакцией.
[8] Мишкевич Григорий Иосифович – занимал должность главного редактора. Он много потрудился, чтобы уничтожить редакцию и оклеветать работавших в ней авторов и редакторов.
[9] Габбе Тамара Григорьевна – одна из первых участниц редакции Маршака, мой друг.
[10] Первый муж Л. К. Чуковской, отец Люши (Елены Цезаревны Чуковской).
[11] Сам Ларри в своих воспоминаниях с благодарностью пишет о встрече с Маршаком и его редакцией, которые помогли ему найти правильный путь в работе над книгой. См. сборник “Редактор и книга”. Вып. 4. М., 1963. С. 276.
[12] Через много лет Л. Я. Криволапов, сам отсидевший длительный срок в сталинских лагерях, пришёл ко мне и просил прощения за статьи в стенгазете и за всё содеянное. “Из нас воспитывали людей подлых, бесчестных, подчинявшихся одному только закону – ”чего изволите”, “что прикажете”, – с горечью говорил он.
[13] Не менее примечательна открыточка, посланная Маршаку во время Отечественной войны, когда Маршак вернулся из эвакуации. У меня нет ее копии, но я помню ее почти дословно: “Дорогой Самуил Яковлевич! Пора нам забыть те мелкие неприятности (выделено мной. – А. Л.), которые между нами были. С начала войны я ушел на фронт, был ранен, сейчас нахожусь в Свердловске. Очень хочу приехать в Москву. Надеюсь, что Вы мне в этом поможете”. Показывая это письмецо, Маршак говорил: “Оно непременно должно сохраниться в моем архиве. Непременно”. А в конце жизни Н. Григорьев, взявшись за мемуары и позабыв о “мелких неприятностях”, писал: “...мне радостно жить и трудиться, и, конечно, делать добро людям” (цитирую по статье в “Ленинградской правде” от 28 декабря 1986 г.).
[14] Выйдя из тюрьмы, я узнала ещё об одном случае, который тоже кажется невероятным. Но что было, то было. В тот день, когда в прокуратуре ЛВО давали справки об арестованных, моя мать пошла на приём к прокурору Дмитриеву. Она твердила только одно: “Все обвинения, предъявленные дочери, – это злостная выдумка. Это ложь. Это ложь”... Дмитриев остановил её, тихо сказав: “Конечно ложь. Уходите скорей”. Он – прокурор! – сам боялся сказанного им слова правды. Но сказал. Не мог не сказать. Поэтому он хотел, чтобы она скорее ушла. Стены прокуратуры не терпят правды. И наверное, у них хороший слух.
[15] Сергей Константинович Безбородов уже давно был расстрелян.
[16] “Невольные подруги” – слова из “Реквиема” Анны Ахматовой: “Где теперь невольные подруги / Двух моих осатанелых лет?”
[17] Это было время, когда Ежова сняли с должности наркома внутренних дел, а сменивший его Берия поначалу демонстрировал, что он исправляет беззаконие Ежова. Исправлял недолго и очень скоро превзошел своего предшественника. При нем продолжались репрессии, при нем многие годы провел в лагере поэт Н. Заболоцкий, погибли в тюрьме поэты А. Введенский и Д. Хармс.
[18] Во время Великой Отечественной войны он ушёл на фронт и был убит.
* * *
Рассказ Александры Иосифовны Любарской сложился при подготовке к изданию 3-го тома «Ленинградского мартиролога» в 1997 г.
В гостях у Александры Иосифовны выслушивал пронзительные воспоминания о тюрьме и безуспешно уговаривал её положить рассказ на бумагу. Наконец, сам конспективно записал услышанное в форме от первого лица и предложил прочесть, править, дополнить.
«У вас получилась хорошая канва, теперь надо наполнить её содержанием», – ответила Александра Иосифовна и взялась за дело. Помогал как мог. Приносил копии документов об арестованных и погибших литераторах. Был первым читателем и соредактором. Поскольку моё основное правило «автор всегда прав», споры решались легко.
В архивном следственном деле А. И. Любарской – как и в большинстве подобных дел времени Большого террора – лишь один «признательный» протокол допроса, безусловно ложный. Он датирован десятым ноября, написан аккуратно, без помарок, рукой начальника 2-го отделения 3-го отдела УНКВД ЛО ст. лейтенанта госбезопасности Н. А. Голуба, «корректировавшего» в своём отделении неудачные для следствия протоколы допросов. В конце протокола вместо подписи А. И. Любарской рукой пом. оперуполномоченного этого же отделения П. А. Слепнёва указано: «Записано с моих слов верно и мною прочитано: Допросили: п. опер. уполномочен. 2 отд. 3 отд. УНКВД ЛО Слепнев и врид опер уполн. 2 отд. 3 отд. сержант госбезопасности Шванев». Нет подписи А. И. Любарской и под рядом записанных Голубом ответов на вопросы, например, под ответом: «О террористической деятельности троцкистского подполья мне было известно, но я лично никакого участия не принимала». Подписи под ответами на другие вопросы в разной степени напоминают обычную подлинную подпись А. И. Любарской, но имеют и много отличий от неё (за образец возьмём подпись в анкете арестованного, подпись в протоколе допроса в присутствии военного прокурора 21 декабря 1938 г. и подпись в заявлении на имя военного прокурора от 17 февраля 1938 г., сохранившемся в другой части архива УФСБ по СПб и области – эти подписи идентичны).
К делу А. И. Любарской приобщены также машинописные копии ложных «признательных» протоколов допросов С. К. Безбородова (от 9 и 16 ноября 1937 г.), К. Н. Боголюбова (от 13 ноября 1937 г.) и А. Б. Серебрянникова (от 14 ноября 1937 г.). Копии ложного «признательного» протокола допроса Н. М. Олейникова в деле нет – видимо потому, что в оригинале его, подписанном Олейниковым, нет упоминаний о Любарской. Однако в деле Т. Г. Габбе случайно сохранилась заметно отличающаяся от оригинала машинописная копия этого протокола (11 вместо 7 страниц), заверенная оперуполномоченным Л. С. Трухиным. В этой ложной копии ложного протокола допроса описана якобы завершившаяся успехом вербовка Олейниковым С. Я. Маршака и разоблачается вредительская группа в Детиздате: Безбородов, Боголюбов, Любарская, Габбе, Серебрянников. Есть основания считать, что существовали и другие подобные копии, затем уничтоженные. Значит арестованным, в их числе Габбе и Любарской, предъявляли не только ложные показания «подельников», но и ложные копии ложных показаний – если надо было вызвать недоверие арестованных друг к другу и сочинить следующую клевету. Судя по сохранившимся документам, предъявлялись даже ложные «показания Маршака». (Жаль, они не уцелели до наших дней. Картина фальсификации была бы нагляднее.) Но несмотря на то, что на Маршака усиленно собирали компромат и под пытками выбивали показания арестованных, НКВД так и не получил санкцию на его арест в 1938 г.
В архивном деле Любарской сохранились также свидетельские показания К. Д. Золотовского (от 10 апреля 1938 г.), Н. И. Комолкина (от 7 апреля 1938 г.), Л. Б. Желдина (от 16 апреля 1938 г.), Б. В. Томашевского (от 8 января 1939 г.), Г. И. Мирошниченко (от 8 января 1939 г.) и В. С. Веденского (Вальде) (от 9 января 1939 г.).
Воспоминания и уцелевшие архивные документы позволяют буквально по дням и месяцам проследить движение следственного дела. Оно никуда не терялось и не уходило от внимания следствия. А. И. Любарскую последовательно пытались осудить, а в конце концов, перед освобождением, хотя бы скомпрометировать её человеческие и профессиональные качества, чтобы оправдать напрасный труд следствия.
25 ноября 1937 г. начальник УНКВД ЛО Л. М. Заковский подписал для рассмотрения в Москве по первой – расстрельной – категории два очередных альбома-списка «японских шпионов, диверсантов, террористов и вредителей». В 9-м списке фигурировали, в частности, имена 12 членов «японской контрреволюционной шпионско-повстанческой организации» – писателей Н. И. Спиридонова и К. Б. Шаврова, этнографов и нескольких человек, совершенно произвольно присоединенных к ним (обвиняемые даже не были знакомы друг с другом). В 10-й список была включена А. И. Любарская.
Трудно понять, почему её имя не включили ранее в 8-й список вместе с «подельниками» – членами её собственной «троцкистской шпионско-вредительской группы».
Может быть, надеялись всё же получить от неё показания на Маршака. Может быть, просто места не хватило. Так, имя Серебрянникова впечатали (на профессиональном жаргоне – «вставили», «пустили по справке в альбом») в 8-й список в последний момент, уже одиннадцатым, сверх первоначально подготовленных десяти «подельников». Последний допрос Серебрянникова датирован 14-м ноября, а уже 16 ноября 1937 г. список утверждён и отправлен в Москву. Допрашивавшие Серебрянникова – следователь Трухин и начальник отделения Голуб – составили даже два протокола этого допроса: поначалу – с отрицанием всех обвинений, потом – содержащий признания во всём, что было нужно следствию. Так же в спешке составлен персональный листок на Серебрянникова для 8-го списка. В нём отмечается, что Серебрянников «в к.-р группу был завербован в 1936 г. в г. Ленинграде МАРШАКОМ Самуилом Яковлевичем, старшим консультантом Детиздата (пока не арестован)”. В персональном листке Любарской из 10-го списка «японских шпионов» назойливо повторена та же формулировка.
А может быть, следователей не удовлетворило качество ложного «признательного» протокола допроса Любарской. И 22 ноября её снова вызывали на допрос к Слепнёву, предъявив для подписи всё тот же протокол от 10 ноября, только заново отредактированный и переписанный (именно он и сохранился в деле). А. И. Любарская должна была признать, что знала о «террористической деятельности». Однако эту ложь, равно как и рассказ о «шпионаже», из неё так и не выбили. Фальсификация осталась некачественной.
К 25 ноября 1937 г. в Ленинграде без проволочки были расстреляны “японские шпионы” уже по восьми спискам. Легко расстреляют “японских шпионов” и по 11-му списку, посланному в Москву 30 декабря 1937-го и утвержденному 12 января 1938 г. Ежовым и Вышинским. Не так получилось с 9-м и 10-м списками.
3 декабря, в канун Дня Сталинской конституции и выборов в Верховный Совет СССР, кандидаты в народные депутаты Ежов и Вышинский были заняты, видимо, сверх меры. Их заместители, Л. Н. Бельский и Г. К. Рогинский, рассмотрев необычные материалы – сразу 100 японских шпионов из Ленинграда! – приняли необычное решение: 79 человек расстрелять немедленно (их имена войдут в 4-й том «Ленинградского мартиролога»), четверых – заключить в лагеря на 10 лет, 16 человек – предать суду Военной коллегии Верховного суда СССР, а в отношении одного «шпиона» решение вообще не вынесли. А. И. Любарская, Н. И. Спиридонов и К. Б. Шавров были среди шестнадцати, подлежащих отныне суду Военной коллегии (то есть, выездной сессии Выенной коллегии в Ленинграде).
Следователи 3-го отдела УНКВД ЛО, чуть схитрив, решили готовить эти дела на рассмотрение Военного трибунала ЛВО («своего», не московского суда).
7–8 января 1938 г. состоялось заседание Военного трибунала по делу Института народов Севера. Не всех подсудимых удалось приговорить к расстрелу (Н. И. Спиридонов был расстрелян в Ленинграде 14 апреля 1938 г., а К. Б. Шавров умер 14 августа 1940 г., отбывая 10-летний срок заключения в Севвостлаге).
Новое обвинительное заключение в отношении А. И. Любарской (предыдущее – уничтожено) было составлено тем же Слепнёвым, подписано Голубом и начальником 3-го отдела майором госбезопасности Я. Е. Перельмутром, а утверждено 25 января 1938 г. ст. майором госбезопасности Н. Е. Шапиро-Дайховским, заместителем Заковского. Для верного расстрельного приговора обвинение было усилено двумя пунктами: «Является участницей контрреволюционной организации, осуществившей 1 декабря 1934 г. злодейское убийство Секретаря ЦК ВКП(б) и члена ЦИК Союза ССР – тов. Кирова» и «Проводила к/р троцкистскую пропаганду и распространяла всякого рода провокационные измышления, дискредитирующие ВКП(б) и Сов. Правительство». Имя одного из якобы изобличающих Любарскую лиц – Олейникова – уже в отпечатанном тексте обвинительного заключения исправлено на Боголюбова.
С таким обвинительным заключением, но без новых доказательств, дело было зарегистрировано в 8-м, учётно-архивном отделе УНКВД ЛО, 2 февраля возвращено в 3-й отдел с напоминанием, что оно подлежит «передаче на Военную Коллегию», а 4 февраля отдано на санкцию военному прокурору. 10 февраля Любарская «перечисляется дальнейшим содержанием за Военным прокурором ЛВО» с переводом в «Кресты».
Пом. военного прокурора ЛВО военюрист 1 ранга Дмитриев 4 марта 1938 г. (зная о неудачном заседании военного трибунала по делу Института народов Севера и получив заявление-протест А. И. Любарской от 17 февраля) не дал санкцию на передачу дела в военный трибунал, отметив: «показания самой Любарской о своей вредительской деятельности мало конкретны», не видно, «в чём конкретно выражалось участие и с кем именно, в дезорганизации работы Детиздата, где данные, говорящие о срыве работы по выпуску детской литературы». 13 марта ответ Дмитриева поступил в Управление НКВД.
27 марта чекисты отправили в милицию на уничтожение паспорт Любарской и быстро организовали дополнительные показания свидетелей по делу о её вредительстве – Н. И. Комолкина, К. Д. Золотовского, Л. Б. Желдина (директора Лендетиздата в 1936 г.).
4 апреля 1938 г. врид директора Детиздата Н. И. Комолкин, главный редактор Д. И. Чевычелов и парторг В. А. Шуктаев подписали акт о задержке и срыве выпуска книг редакторами Чуковской, Любарской и Задунайской.
22 апреля следователи вернули дело Любарской прокурору Дмитриеву, отчитавшись: «Ваши замечания по делу выполнены». Однако тот (имея на руках два следующих заявления Любарской и помня о разговоре с ней 8 апреля) 27 мая 1938 г. формулирует постановление военной прокуратуры: «Не соглашаясь с обвинительным заключением о направлении дела в ВТ ЛВО... возвратить [дело] начальнику III Отдела УНКВД ЛО» – во-первых, потому что нет «достаточного подтверждения в материалах дела» того, что Любарская знала о террористической деятельности её организации, – во-вторых, потому что «завербовавший ЛЮБАРСКУЮ МАРШАК по делу не привлечён и не допрошен», не привлечён также Николай Васильевич Слепнёв, бывший редактор ленинградской газеты «Смена» (якобы завербовавший в троцкистскую организацию Безбородова и сообщивший Безбородову о вредительской деятельности Любарской), – наконец, в третьих, потому что по её делу не была проведена ни одна из требуемых ею очных ставок, а сама она отказалась от своих показаний в заявлении на имя военного прокурора. Выполнить новые требования прокуратуры (31 мая постановление утвердил и. о. военного прокурора ЛВО Шмулевич) было попросту невозможно, и чекистам не осталось ничего иного, как просить санкции прокурора на передачу дела для рассмотрения в другую инстанцию.
Они выбирают Особое совещание НКВД – почти исключается вероятность вынесения расстрельного приговора, зато суд заочный, и лагерный срок обеспечен. В ответ на новое ходатайство зам. военного прокурора ЛВО Кошелев сообщил 5 августа 1938 г., что направление дела на рассмотрение ОСО НКВД в соответствии с добытыми следствием материалами «возможно».
26 августа 1938 г. новый начальник 3-го отдела УНКВД ЛО Альтман и новый начальник 2-го отделения 3-го отдела Соловьев посылают в Москву копию обвинительного заключения по делу Любарской с просьбой о необходимой санкции. Трибунал «от ведения дела отказался, – сообщают следователи, – т. к. проходящие по делу литераторы Маршак и Слепнёв не арестованы» – Н. В. Слепнёв «находится в Москве и работает в редакции газеты “Красный спорт”, а Маршак “разрабатывается 4-м отделом УНКВД ЛО».
Но уже пошатнулось положение Ежова в Москве и, соответственно, всех его ставленников на местах, включая начальника УНКВД ЛО М. И. Литвина (см. о нём: Ленинградский мартиролог, 1937–1938. Т. 1. С. 679). Предшественник Литвина в Ленинграде, а затем 1-й зам. Ежова Заковский 29 августа 1938 г. расстрелян как «враг народа». В сложившейся обстановке начальник 3-го отдела 1-го управления НКВД СССР Николаев 17 сентября возвращает в Ленинград копию обвинительного заключения по делу Любарской с неожиданной резолюцией: «Срочно тов. Литвину. Лично. Прошу Вас разобраться с этим делом. Если Любарская террористка, почему её дело направляете на Особ. Совещание? Если Слепнёв и Маршак террористы, почему не ставите вопрос об их аресте?»
12 ноября 1938 г. начальник УНКВД ЛО Литвин, предвидя арест, застрелился, его сменил в должности С. А. Гоглидзе, и следователям было не до конкретных дел. А после назначения Берии 7 декабря 1938 г. наркомом внутренних дел начались разборки во всех подразделениях НКВД – кто-то должен был ответить за «перегибы» сталинского террора. Некоторые дела были прекращены, а заключённые, которых не успели или не смогли расстрелять, – освобождены. Недострелянные и освобождённые, в их числе Александра Иосифовна Любарская, помянуты в 12-м томе «Ленинградского мартиролога».
Буквально накануне освобождения А. И. Любарской были ещё раз допрошены некоторые свидетели по её делу. Высочайшую оценку профессионализму Любарской дал Томашевский, а Чевычелов представил 9 января 1939 г. следователю Трухину «вредительский» план Лендетиздата за 1934–1936 гг. с обещанием дать вскоре «более развернутый анализ». Обращение Маршака и Чуковского к Вышинскому было как нельзя кстати. А. И. Любарскую освободили. Оперуполномоченный Трухин вынужден был зафиксировать в прекращенном деле: Скомпрометированных лиц в показаниях обвиняемой Любарской не значится. Личная переписка, изъятая у неё при аресте, была уничтожена как «не представляющая ценности» ещё раньше, накануне составления 10-го расстрельного списка «японских шпионов» осенью 1937 г.
Следственное дело Т. Г. Габбе числилось под тем же номером 23686, что и дела других сотрудников Детиздата, и вёл его поначалу тот же следователь Слепнёв. 11 сентября 1937 г. следствие по делу Габбе «по оперативным соображениям» было передано в 7-е отделение 3-го отдела УНКВД ЛО. (Это же отделение вело дело писателей Н. И. Спиридонова, К. Б. Шаврова и сотрудников Института народов Севера, обвиняемых в японском шпионаже.)
16 декабря 1937 г. Т. Г. Габбе была освобождена, а дело прекращено, т. к. «имеющимися материалами» её «виновность... не подтвердилась».
Михаила Моисеевича Майслера арестовали 14 марта 1938 г. по обвинению в шпионаже в пользу Польши. После увольнения из Детиздата весной 1937 г. и до своего ареста М. Майслер (в прошлом политэмигрант из Польши) служил в разведотделе штаба Белорусского военного округа. Материалом для подозрений в отношении Майслера послужило заявление (поданное в НКВД после 11 августа 1937 г. директором Детиздата Криволаповым и парторгом Комолкиным) о странном поведении Майслера и его связи с «антисоветски настроенными работниками Детгиза, группирующимися около Маршака – Задунайской, Чуковской, Любарской и Габбе». Майслер был освобождён из тюрьмы 7 июня 1939 г., т. к. обвинение не подтвердилось. Важную роль в его освобождении сыграли показания свидетельницы Л. К. Чуковской. Майслер погиб под Ленинградом во время Великой Отечественной войны.
С. Я. Маршак ещё и в 1950–1951 гг. – уже в Москве – тайно «разрабатывался» МГБ СССР, но арест снова не состоялся. Согласно одному из преданий, потому что дочери Сталина нравились его стихи.
Линда Густавовна Утриайнен получила советское гражданство в 1925 г. В 1928–1932 гг. Линда служила в разведотделе ЛВО и много раз нелегально переходила границу в Финляндию и обратно. В 1934 г. брат Линды Армас Утриайнен, пом. нач. разведотдела ЛВО, был расстрелян по обвинению в шпионаже. Были расстреляны также её брат Эмиль, муж сестры Лаури Виртанен и первый муж, отец её дочери Карл Халме (работник Коминтерна). В 1937 г. Линда работала оператором-верификатором Лен. станции механизированного счета ЦУНХУ. Была больна туберкулёзом. Её дочери было пять лет. Линда была арестована 1 августа и очень долго не признавала себя виновной (давала «путаные показания, стремясь следствие повести по ложному пути»). Тогда её дело передали из 7-го отделения 3-го отдела в 5-й (особый) отдел УНКВД ЛО. 12 ноября 1937 г., не выдержав давления, Утриайнен написала заявление на имя начальника УНКВД ЛО с признанием вины. Но потом снова собралась с силами. «Признательный» протокол её допроса датирован только 19-м декабря. И в нём нет ни одной подписи, идентичной подписи Утриайнен в анкете арестованного. Видимо, этот протокол и стал итогом многосуточного «конвейерного» допроса, о котором вспоминает А. И. Любарская. 27 января 1938 г. Линда Утриайнен была расстреляна по приговору Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР как «финская шпионка». Изъятый у неё при аресте полевой бинокль был передан в комендатуру УНКВД.
Анья Ивановна Пало работала редактором финской газеты «Вапаус» в Ленинграде, была арестована 30 октября 1937 г., виновной себя не признала, но была расстреляна по приговору Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР 18 января 1938 г. как участница «контрреволюционной шпионско-повстанческой организации». Реабилитирована в 1965 г. по заявлению сотрудника ЦК КП Финляндии Х. Сиппола.
Флагман 1-го ранга Александр Кузьмич Сивков и инженер-флагман 2-го ранга Николай Владимирович Алякринский были расстреляны 22 февраля 1938 г. по приговору Выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР. Елена Павловна Сивкова и Клавдия Васильевна Алякринская были арестованы 11 июля 1937 г. Обе виновными себя не признали, но 10 апреля 1938 г. были заочно осуждены ОСО НКВД к восьмилетнему заключению в лагеря «за содействие в контрреволюционной деятельности своим мужьям». Обе вернулись из лагерей и в 1956 г. были реабилитированы военным трибуналом ЛВО «за отсутствием состава преступления».
Бывшие руководители Лендетиздата Криволапов и Мишкевич сами провели впоследствии годы в тюрьме и лагерях.
23 сентября 1937 г. бюро Ленинградского обкома ВЛКСМ приняло постановление: «Криволапова, допустившего исключительную засоренность аппарата Лен. отделения Детиздата вражескими элементами ... с работы снять». 27 декабря 1937 г. он был арестован как «активный участник антисоветской организации правых», 22 сентября 1938 г. осужден к 10 годам тюремного заключения, в 1946 г. освобожден из Норильлага, а в 1951 г. сослан на поселение в Красноярский край. Криволапов был реабилитирован в 1955 г., причём свидетельствовавшие по его делу в процессе реабилитации Т. Г. Габбе и С. Я. Маршак не посчитали возможным сказать о нём ничего худого.
Мишкевич ушел из Детиздата осенью 1938 г. в Ленинградский лекторий. Арестован он был после войны, в связи с так называемым «Ленинградским делом» и 23 июня 1951 г. осуждён на десять лет ИТЛ «за соучастие в антисоветской вредительско-подрывной группе и антисоветскую агитацию» (ему вменили в вину составление путеводителя по Музею обороны Ленинграда, в котором он некоторое время был парторгом и зам. директора по научной части). В 1954 г. он был освобождён из Минлага Коми АССР. Реабилитирован.
Чевычелов долгие годы после описываемых событий продолжал способствовать репрессиям против писателей.
Следователь Пётр Арсентьевич Слепнёв был принят на работу в НКВД в июне 1937 г. по мобилизации через партком завода им. Молотова. Был женат, в 1937 г. у него родился сын. Как помощник оперуполномоченного 2-го отделения 3-го (контрразведывательного) отдела Слепнёв принимал участие в допросах и оформлении следственных материалов на С. К. Безбородова, К. Н. Боголюбова, Б. А. Васильева, Т. Г. Габбе, Д. П. Жукова, А. И. Любарскую, М. Мори, Н. А. Невского, В. В. Ненарокова, Н. М. Олейникова, А. Б. Серебрянникова, В. И. Эрлиха и других арестованных. За отличие в работе, к юбилею ВЧК–ОГПУ–НКВД Слепнёв был награждён именным оружием. Но неожиданно получило ход заявление А. И. Любарской от 17 февраля 1938 г. на имя военного прокурора о методах слепнёвских допросов. Одновременно, в феврале – апреле 1938 г., Особоуполномоченным УНКВД ЛО проводилась проверка «в отношении полученных сведений об интимной связи» Слепнёва с женой арестованного по обвинению в шпионаже в пользу Японии артиста Театра оперы и балета им. Кирова Л. А. Вительса. Получив задание организовать встречу Вительса с женой, Слепнёв стал с ней встречаться сам и встречался три месяца, а при разборе этого случая объяснил, что она сама к нему приставала. (Л. А. Вительс был арестован 15 июня 1937 г., расстрелян 18 января 1938 г.) Слепнёва уволили из органов НКВД 1 апреля 1938 г., а 10 апреля он допрашивался в связи с заявлением А. И. Любарской. Слепнёв отрицал применение с его стороны «методов физического воздействия», но сказал, что допрошена Любарская была «крепко, с угрозами», а затем её показания были «переформулированы начальником отделения Голубом». Допрошенные Голуб, Шванёв и Трухин были на стороне Слепнёва, и проверка заявления А. И. Любарской была прекращена. С 1939 по 1945 г. Слепнёв служил в армии рядовым, имел награды. После войны он работал зам. нач. литейного цеха Ленинградского карбюраторного завода. 14 и 15 декабря 1955 г. Слепнёв допрашивался в качестве свидетеля при разборе дел 1937 года и, в частности, признал, что выезжал на проведение операций по арестам и обыскам, что принимал участие в следствии «по делу профессоров Ленинградского восточного института, по делу писателей, по китайцам», что применял к допрашивавшимся им арестованным «стойку и непрерывный допрос, длящийся иногда от 12 и до 24 часов, а иногда и больше». К ответственности Слепнёв не привлекался.
Оперуполномоченный 2-го отделения 3-го отдела УНКВД ЛО сержант госбезопасности Леонид Степанович Трухин принимал участие в допросах и оформлении следственных материалов на Б. А. Васильева, А. И. Любарскую, М. Мори, Н. А. Ненарокова, Н. М. Олейникова, А. Б. Серебрянникова, В. И. Эрлиха и других арестованных. 30 декабря 1938 г. (в день допроса А. И. Любарской начальником УНКВД Гоглидзе) и 10 февраля 1939 г. Трухин подал заявления в партком с признанием, что в его отделении «обвиняемых колотили и с санкции и без санкции на то» – все избивали арестованных, в том числе и он сам. В апреле 1939 г. Трухин допрашивался в качестве свидетеля по делу начальника 2-го отделения Голуба. Во время войны служил в СМЕРШе, в 1945 г. майор госбезопасности. После войны жил в Ленинграде. 30 сентября 1955 г. военный трибунал ЛВО вынес частное определение о соответствующей проверке и привлечении Трухина к ответственности за незаконные методы ведения следствия. К ответственности Трухин не привлекался.
Сержант госбезопасности Николай Иванович Шванёв принимал участие в фабрикации тех же дел. За отличие в работе, к юбилею ВЧК–ОГПУ–НКВД был награждён именным оружием. К ответственности не привлекался, в 1939 г. повышен в звании до лейтенанта госбезопасности. В 1945 г. подполковник.
Старший лейтенант госбезопасности Наум Абрамович Голуб, нач. 2-го (восточного) отделения и пом нач. 3-го отдела УНКВД ЛО был арестован 26 января 1939 г. по обвинению в том, что он «допускал преступные методы в следственной работе». Свою вину Голуб отрицал, но сослуживцы (некоторые из них и сами были арестованы, других, наиболее активных в критике и самокритике, не тронули), заклеймив его для начала 19 января на отдельском партийном собрании, показали, что Голуб отдавал приказы арестовывать в Ленинграде всех корейцев, китайцев и харбинцев, корректировал протоколы допросов, применял непрерывные допросы и избиения арестованных. Судя по заявлению Трухина, на одном из оперативном совещаний Голуб говорил: «Все кого мы арестовываем – это жуткие шпики и антисоветчики, и поэтому жмите из них сволочей всё, пусть у них кости трещат, дайте им в морду». В связи с самоубийством Голуба его дело было прекращено 21 мая 1939 г. Голуб не реабилитирован.
В чекисте, называвшем в присутствии А. И. Любарской плановые цифры по разоблачению шпионов, легко угадывается нач. 3-го отдела УНКВД ЛО майор госбезопасности Яков Ефимович Перельмутр. Он руководил контрразведывательным отделом с августа 1937 по май 1938 г. Его коллеги дали такую характеристику работе отдела в это время: «Перельмутр встречал каждого приходившего начальника отделения вопросом «сколько постановлений на арест вы принесли?» и получая ответ, допустим 20, заявлял «никуда не годится. Вам минимальный лимит 100», «увеличивал для отделений лимиты», «выдвигал встречные планы» в ответ на задания руководства УНКВД (из показаний зам. нач. 3-го отдела В. Г. Болотина, о нём см.: Ленинградский мартиролог, 1937–1938. Т. 1. С. 677); Перельмутр неоднократно на оперативных совещаниях «открыто требовал и добивался, чтобы следственный аппарат 3-го отдела давал не меньше 100–120 признаний в сутки. Он требовал, чтобы каждый следователь в ночь приводил к сознанию («раскалывал») не меньше 2, а то и 4 арестованных» (из письма в партком пом. нач. 3-го отдела и нач. 7-го отделения ст. лейтенанта госбезопасности С. Ф. Занина). В августе–декабре 1938 г. Перельмутр исполнял обязанности нач. УНКВД по Амурской области, а 7 января 1939 г. был арестован как «активный участник антисоветской шпионской организации ПОВ». На допросах держался стойко, не признал ни одного обвинения, утверждая: «за весь период моей работы в УНКВД по Ленинградской области, мне ни об одном случае фальсификации следственных документов или каких либо других нарушений в следственной работе со стороны подчинённных мне сотрудников известно не было». 19 января, 15 февраля и 16 марта 1940 г. состоялись заседания Военной коллегии Верховного суда СССР по его делу. На втором и третьем заседаниях Перельмутр предстал перед судом в невменяемом состоянии. Некоторые его фразы позволяли понять причину внезапного сумасшествия. Он говорил, что уже был приговорен к расстрелу и «прошёл кровопуск», что его брат Борис (капитан штаба погранвойск в Ленинграде) «19.1.40 г. погиб здесь в тюрьме», что от его семьи «в настоящее время остались лишь черепа и черепки». 17 марта Перельмутр был расстрелян. Не реабилитирован.
Контрразведывательным отделам НКВД отводилась особая роль в массовом разоблачении и уничтожении «шпионов». Поэтому понятно внимание, уделённое им во время бериевских разборок, а затем в годы «оттепели» и массовой реабилитации репрессированных. Значительное количество соответствующих архивных материалов позволяет представить сталинскую контрразведывательную деятельность во всех деталях. Так, в Ленинградском управлении, как, впрочем, и повсюду, были свои мастера подделывания подписей арестованных, а за каждое «признательное» показание следователи получали вознаграждение в размере 30–50 рублей. Секретные осведомители, доносившие о существовании раскрытых ими «шпионских гнёзд», также получали денежное вознаграждение и ценные вещи.
Семён Арсентьевич Гоглидзе, третий по счету начальник Ленинградского управления НКВД за время тюремного заключения А. И. Любарской, был назначен на свою должность 16 ноября 1938 г. и пробыл в Ленинграде до февраля 1941 г. Впоследствии занимал ряд высоких должностей в МГБ и МВД СССР. Расстрелян 23 декабря 1953 г. вместе с Л. П. Берией, в канун новой исторической эпохи. Не реабилитирован.
Один лишь документ не захотела публиковать Александра Иосифовна – заявление на имя военного прокурора, с описанием методов следствия, «ускоренного и упрощённого» согласно заданиям партии и правительства. Впоследствии текст частично опубликовал Самуил Аронович Лурье (С. Гедройц), друг Александры Иосифовны:
От 17 февраля 1938 года, из камеры № 84 – заявление военному прокурору ЛВО.
«В папке, содержащей моё дело, имеется подписанный мною протокол, в котором я признаю, что была членом к.-р. организации, и даю по этому поводу показания. Таким покажется этот протокол всякому, кто познакомится с ним со стороны. Но на самом деле это не так. Я не могу признать, что была членом контр-рев. организации, потому что я никогда ни в какой контр-рев. организации не состояла, а подпись на моем протоколе получена методом "физического насилия", как назвал этот метод следователь Слепнёв, когда он меня бил. Я подписала протокол, в котором мои ответы это не мои ответы, а приписанные мне ответы, составленные за меня, частью заранее, частью в моём присутствии, но без моего участия. Только два ответа принадлежат действительно мне – это утверждения, что я не имею никакого отношения ни к террору, ни к шпионажу. Но я подписала весь протокол, потому что не могла выносить того, что меня бьют.
…Я вызвала начальника ведущего следствия дела (Так в документе. – С. Г.) и заявила ему, что то, что я подписываю, – это ложь, я сказала, почему я эту ложь подписала, но что новой лжи я подписывать не буду, хотя следователь снова бил меня. Начальник не нашёл, очевидно, нужным изменить что-нибудь в ходе моего дела, но пункт о терроре, согласно его распоряжению, остался не подписанным.
…К моему делу приложены протоколы людей, фамилии которых я услышала первый раз в жизни, подписывая окончание следствия. Эти протоколы приложены, п. ч. я считаюсь членом организации, к кот. они принадлежат. Но вот странность: протоколов Маршака С., которого я действительно знаю, и с кот. я работала в Детиздате, там нет. А протоколы эти мне читали на следствии для того, чтобы доказать, что Маршак был вредителем в детской литературе – ибо он сам в этом признается – и что он и меня вёл в таком направлении. Я думаю, что этих протоколов нет в моем деле, п. ч. их нет вообще, п. ч. Маршак вредительством в редакции Детиздата не занимался и меня этому не учил.
…Я пишу это заявление для того, чтобы просить Вас создать возможность пересмотра моего дела в тех условиях, которые даёт Конституция, в условиях привлечения свидетелей, с кот. могут быть устроены очные ставки и т. д. Сейчас я лишена возможности что бы то ни было доказать, а протокол, подписанный мною из страха боли, унижения и оскорбления, делает меня совершенно беспомощной…»
Сильное, прекрасное заявление. Александра Иосифовна победила. Редкий случай для пика Большого Сталинского террора.
В день подачи заявления Любарской в Ленинграде были расстреляны 57 человек, среди них трое женщин. Одна из троих – портниха Анна Павлова, расстрелянная за письмо к Сталину:
«Ты только вспомни сколько замучил народу, подожди, будешь подыхат все тобою замученные обступят тебя и даш ответ перед Богом за свои злодеяния, что бы твои бандиты ни натворили, всегда отвечает их атаман, т. к. даёш им на местах творить всякие беззакония...
Дураки будут те страны, которые у себя сделают революцию, не ужели ещё не научилис на наших страданиях что значит свобода. Верно подметил Андрэ Жид, что у народа ничего своего нет, что велят то и говорят, твоя конституция есть настоящая проституция, ни больше не меньше. Ты мучаеш народ, а Вас паразитов ублюдков разит Господь по очереди дохнут твои ублюдки, издохнит бандит сейчас вывешиваете флаги комедианты проклятые.
Кирова убили, за одного ублюдка сколько пролито крови и раззорено семейств, а кричите, что гнев народа народ требует смерти.
Врёте бандиты кровопийцы, это Ваши слова, а не народа. Народу этого не надо, народу нужна здоровая сытая жизнь и культурная, а это твои слова, что-бы удержаться у власти.
Всё равно, рано или поздно под женю тебя поддадут и всех твоих холуёв. Чуть что за границей заговорят, сейчас процесс, знаю Вашу комедию комедианты проклятущия – не даром больше 17 л. работала в суде все Ваши подходы изучила.
Теперь тобою ещё не учтены одни сортиры и там не висят твои портреты, а то твоей рожей завешены все дыры. Теперь повесить в сортир и будешь следит, сколько каждый сходит, тогда все будет на учёте, наверное это забыли»...
Александра Любарская и Анна Павлова сидели рядом, в одних и тех же тюрьмах: на Воинова, в «Крестах». Может, и в камерах встречались.
Анатолий Разумов, 24 января 2018