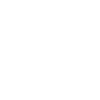Алешина Людмила Ивановна
Алешина Людмила Ивановна, 1922 г. р. Место проживания: Усачев пер., д. 11, кв. 12. Дата смерти: июль 1942. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 1)
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. МАРИЯ И ЛИДИЯ АЛЁШИНЫ
До революции
Моя бабушка Мария Васильевна Алёшина родилась 10 февраля 1899 года в деревне Средний Двор Уломского уезда Вологодской губернии, крестили ее в Ваучской церкви – так написано в её метрике (свидетельстве о рождении). В других документах время её появления на свет значилось как 11 февраля 1900 года. Как-то она спросила свою маму – её звали Маревьяна Васильевна Алёшина – какая дата из этих двух верна, та ответила: «Да кто же его, Машенька, знает. Вас у меня семеро родилось, про всех не упомнишь. Наверняка знаю, родилась ты в феврале. Вьюга была сильная, света белого не видно».
В крестьянской семье Алёшиных еще помнили крепостное право. Впрочем, на издевательства со стороны помещиков никто не жаловался.
У Машиной бабушки Ульяны (моей прапрабушки) было 14 детей, среди них: уже названная Маревьяна и двое сыновей, которые носили одинаковое имя – Василий: скорее всего, по церковному календарю на дни их рождений Василий выпадал. Ульяна была долгожительницей, умерла в 1906 году, зимой. А ещё летом ходила с внучкой Машей в лес за клюквой. Когда девочка попросила водицы напиться, Ульяна лаптями потопталась по болотцу, вода выступила, внучка наклонилась, набрала в ладошки и напилась: вода чистоты редкой была, никак не тронутая цивилизацией.
Так вот: когда настало время Ульяне покинуть жизнь земную, она это почувствовала: сказала родным, чтобы все в её избе собрались, что в сей день она умирать будет, и легла, потом уже и говорить не могла, а на дверь всё смотрела: любимого младшего Васеньку ждала, а как увидела, вздохнула в последний раз с облегчением, и ушла в мир иной.
Всё детство Маша жила в своей деревне. Растила её, в основном, мать, у которой, кроме Маши, были ещё: старшая дочь Александра, сыновья Иван, Степан, Василий, младшие дочери Анна (Няха) и Ирина (Иринья). Отец семейства Василий Иванович Алёшин в семье жил наездами, на долгие месяцы уходил на заработки, а денег домой приносил мало. Да и Бог весть, где он был на самом деле…
В возрасте 12 лет Машу отправили в Петербург. Там в семье дворян Гулиных прислуживала Машина тётка, она-то и договорилась со своими хозяевами, что те возьмут девочку ей в помощь. Маша в том дворянском доме и работала, и росла, а когда ей исполнилось 17 лет, на неё – рыжеволосую с длинной косой девицу-красавицу – обратил внимание хозяйский младший сын Михаил Гулин, ему тогда было 28 лет. И не просто обратил внимание, а влюбился со всей страстью и женился на ней по всем правилам того времени, обвенчавшись в церкви. Так моя бабушка стала Марией Гулиной, женой дворянина, родителям которого принадлежало в Петербурге – столице Российской империи – несколько доходных домов (это что-то вроде гостиниц с длительным проживанием). В моей юности мы с мамой Лидией Ивановной Алёшиной жили на Васильевском Острове – на Среднем проспекте совсем рядом с домом, которым в царские времена владели Гулины.
Революция
Венчание Михаила и Марии Гулиных пришлось на 1917 год. Кто-то из семьи Гулиных – родители, старшие братья – после Октябрьской революции сразу и навсегда уехали в Париж. А Михаил с молодой женой эмигрировать не торопился. Как известно из истории нашего государства Российского, дворяне мужского пола с детства зачислялись в царскую гвардию, вот и Михаил был царским офицером. Но воевать с большевиками он не собирался; решал, где жить дальше, в России или во Франции, и пока оставался в Петрограде. – Так город на Неве стал называться с 1914 года, когда началась Первая мировая война. Основным противником Российской империи была Германия, вот по этой причине городу, названному Петром Великим на немецкий манер – Петербург, дали новое – русское – имя Петроград. А в 1924 году умер вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ульянов (Ленин), и город снова переименовали – на сей раз в его честь – в Ленинград.
Но вернемся к Гулиным. Михаил с Машей нередко ездили в усадьбу в Комарово, что под Петроградом. Там у него было достаточно свободного времени, и он учил Машу грамоте и хорошим манерам, что у неё вполне получалось. Их отношения чем-то напоминали пушкинскую «Барышню-крестьянку», вот только крестьянка была настоящая. Спустя десятилетия Мария Васильевна рассказывала про очень удобные кожаные кресла, на которых они с Мишенькой сидели, и про то, как он играл на рояле. Но их счастье продолжалось недолго. То ли в 1919 году, то ли в 1921, – в любом случае ещё при Ленине, за которым уверенной поступью шли рабочие и крестьяне, Михаила Гулина большевики арестовали, через несколько дней с другими представителями высшего сословия посадили на Неве на баржу, баржу засмолили и потопили.
Незадолго до ареста Гулин, видимо, предчувствуя беду, сказал Маше, что фамильные драгоценности она на тревожное время может передать знакомому – вхожему в их дом священнику, а потом, когда станет поспокойнее, взять их у него обратно. А если совсем плохо будет, уехать с этими сокровищами во Францию и всю жизнь жить на них, ни в чём не нуждаясь. Маша к священнику пошла, драгоценности для сохранности у него оставила.
До войны
В бывшем доме Гулиных новая власть оставила ей одну комнату, правда, самую большую и просторную. Постепенно Маша начала приходить в себя после пережитого. Стала работать на фабрике. Пришла к священнику за драгоценностями, а он ей в ответ: «Иди, дочь моя, с богом. Я тебя не знаю». Примерно в то же время дворник бывшего дома Гулиных заявил в новоявленные большевистские органы, что из семьи его бар осталась жена Михаила – Мария. Новая власть ею заинтересовалась; чтобы избежать печальных последствий, Мария по совету друзей семьи Гулиных вернула девичью фамилию – Алёшина, а властям сказала, что была экономкой.
В 1924 году она снова вышла замуж, на этот раз за своего односельчанина Ивана (Ивана Васильевича Акулова), но свою фамилию – Алёшина – менять не стала. К этому времени он, как и Мария, давно жил в Петрограде, и даже успел стать революционным моряком (скорее всего, с кем-то за компанию, а не по убеждениям) и поучаствовать во взятии Зимнего дворца. Оба верили в светлое будущее. Через год у них родилась дочка Лидочка (моя мама). Растить маленького ребёнка в коммунальной квартире оказалось совсем плохо, и Мария взяла Лидочку и поехала с ней к своей маме Маревьяне Васильевне и другой родне на Вологодчину. По тем временам они считались середняками и жили не ах как, но, во всяком случае, неплохо: на хорошем воздухе, на молоке от своей коровы и своих овощах-фруктах.
Года через три Мария с дочкой вернулись в Ленинград. Оказалось, жить им негде. Иван проигрался в карты, комнату продал. Да и вообще запил. Они окончательно расстались, а Марию с Лидочкой пустила к себе пожить дальняя родственница – в дом на набережной реки Пряжки. Впрочем, жизнью это всё назвать нельзя, это было существование: в одной комнате в коммуналке, кроме родственницы, находился её муж, женщина-проводница, которая, на радость всем часто была в разъездах, и теперь – молодая мама с маленькой дочкой.
А Иван, Лидочкин отец, ещё какое-то время жил в соседнем доме. Видел, как девочка из очага, так называли тогда детский сад, возвращалась домой. Своим мужикам-приятелям хвастался: «Смотрите, моя дочка-красавица идёт». Но Лидочка разговаривать с отцом-пьяницей не желала и шла домой, делая вид, что не замечает его, с гордо поднятой головой. Потом Иван уехал в Мурманск на заработки, там во второй раз женился, кстати, вторую жену тоже звали Мария, кажется, у них родился ребёнок, а в 1934 году Иван умер от прободения язвы.
Мария стала работать в электротехнической артели «Автопровод» (Лиговская ул., 272). Несмотря ни на что, она, как и подавляющее большинство людей того поколения, продолжала верить в победу коммунизма. Работала много, честно и хорошо. Как передовую работницу, её выдвинули в депутаты Ленгорсовета. В день избрания её все поздравляли, даже подарили цветы, а в качестве премии выдали прюнелевые (сделанные из ткани) туфли. Потом она вышла на улицу, стала садиться в переполненный трамвай, откуда кто-то неизвестный вышвырнул её и ударил в спину.
Вскоре Марии Васильевне Алёшиной как депутату наконец-то дали отдельную комнату в коммунальной квартире на улице Плеханова, дом 47. Это было настоящее счастье: ведь в комнате жила только их семья, – мама и дочка. Лидочка стала ходить в школу, училась хорошо. Кстати, тогда же пошла в школу для малограмотных и Мария, ведь Михаил Гулин не успел дать ей образование. Мария была одна из многих, кто в соответствии с декретом Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года – ликбезом – сел за парту во взрослом возрасте. В семейном архиве хранится Свидетельство, выданное Отделом массово-политической культурно-просветительской работы за № 413: «Предъявитель сего Алешина М.В. в 1937 году окончила школу для малограмотных Системы ЛО СНК Московского района при артели «Автопровод», программу усвоила: русский язык – «отлично», математика – «посредственно», география – «отлично». Свидетельство выдано на основании проведённых итоговых испытаний. Подписи – инспектор начальных школ, зав. школой».
Мария Васильевна работала с раннего утра до позднего вечера. А как-то пришла домой почти ночью и, очень расстроенная, сказала дочке, что если она вовсе не вернётся, чтобы та шла жить на Лиговку – к тёте Клаве Месяцевой, двоюродной сестре Марии. Такие ночные возвращения продолжались несколько недель. Только спустя много десятилетий – уже в начале 70-х – Мария Васильевна по большому секрету призналась нам – своим дочке Лиде, моей маме, и мне, её внучке, – что её вызывали в Большой дом на Литейном проспекте – это НКВД. Там она часами высиживала в коридоре. В кабинеты её не звали. А рядом с ней в ожидании допроса сидели другие люди. Они говорили о том, что чисты перед Сталиным и перед партией, что они не враги народа, что не понимают, почему их сюда вызвали. При этом, конечно, пересказывали подробности своей жизни: встречи и разговоры с родными и знакомыми. Среди таких посетителей НКВД были и сотрудники этой организации – под видом таких же недоумевающих, как и прочие, они якобы жаловались на свои беды, на незаслуженные подозрения. Пройдя эту коридорную отработку, Мария, судя по тому, что не попала в заключение, была признана невиновной и более в этом здании на Литейном не бывала.
ВОЙНА И БЛОКАДА
Эти события проходили накануне Великой Отечественной войны. Мария Васильевна была уверена, что теперь они с дочкой будут жить спокойно. Но тут началась война и блокада. В самом начале блокады – в сентябре 1941 года Мария Васильевна – трижды пыталась отправить Лиду в эвакуацию, но, то эшелоны, на которых она должна была уехать, были неверно сформированы, то поезда недалеко от Ленинграда разбомблены. В общем, Лида осталась с мамой в родном городе. Они, как и большинство ленинградцев, не сомневались, что советская власть их в беде не оставит, поэтому существенных запасов продуктов у них не было. Мария Васильевна работала, Лида училась в 10-м, выпускном, классе.
Первые бомбардировки Ленинграда произошли в сентябре 41-го, был уничтожен огромный дом на Невском. Лида с другими ребятами с детским любопытством пошла посмотреть на то, что осталось от дома. Увидев этот кошмар, дети вмиг повзрослели.
Школьников-старшеклассников стали учили не только наукам, но и тому, как гасить зажигательные бомбы – жители называли их «зажигалками».
Почти каждую ночь немцы совершали налёты на Ленинград, сбрасывали «зажигалки» на город. Лида вместе с другими школьниками дежурила на крыше своего дома. Эти «зажигалки» с легкостью пробивали крышу дома, падали на чердак, раскидывая искры, и всё вокруг мгновенно от них загоралось. Лида хватала этих «маленьких дьяволов» специальными щипцами и зарывала в специальном железном ящике с песком. Она навсегда запомнила и спустя многие десятилетия в подробностях рассказывала своей внучке Маше, как надо было брать эти «зажигалки» – только с определенной стороны, которая не горела, и как полыхающей стороной её надо было опускать в тот ящик.
Шла осень 1941-го. Продовольственные пайки ленинградцев резко уменьшались, бомбёжки учащались. Лида продолжала ходить в школу. Но с каждым днём видела всё меньше своих ребят: кого-то эвакуировали, тех, кто был постарше, отправили на фронт. Часто было и так, что одноклассник, который ещё вчера сидел за соседней партой, на следующий день не мог встать от голода или погибал от вражеских снарядов, обстрелы могли длиться 18 часов.
Школы закрывались, но Лида ещё продолжала учиться. Занятия проходили для учеников всех классов одновременно в подвале, где можно было спастись от бомбёжек. К слову, в огромном городе, где к началу войны жили более 360 тысяч детей-школьников, в январе-марте 1942 года действовало всего 39 школ.
Позже Лида всё-таки перестала ходить в школу, – Мария Васильевна определила дочку к себе в артель, которая была перепрофилирована на оборонку и делала детали для военной техники. И тогда Лида стала получать такой же паёк, как все ленинградские рабочие, – 250 граммов хлеба в сутки. Служащим, иждивенцам и воинам, не находящимся на передовой, выдавали 125 граммов. Только от голода с ноября 1941 по октябрь 1942 погибли более семисот тысяч человек.
В ноябрьский день 41-го года Мария Васильевна стояла за станком в цехе, от голода у неё закружилась голова, она упала, а подняться не смогла. Ноябрь тогда выдался невероятно холодный и снежный. Мужчины, трудившиеся вместе с Марией Васильевной и Лидией, смастерили им санки и печку-буржуйку. От Лиговки, где они работали, до их дома на улице Плеханова было пять километров, Лида на санях везла маму два дня: ночевали они у тёти Клавы Месяцевой.
Дома Мария Васильевна уже только лежала – вставать не было сил, как-то сказала дочке, что скоро умрёт, но до того хочет кислых щей. Лида не знала, что делать: какие кислые щи в блокаду?! Вышла на улицу, прошла несколько домов и вдруг, как в сказке, почувствовала запах этих самых кислых щей, по запаху нашла и семью, что их приготовила. Попросила щей для мамы, рассказала, в чём дело. И те люди налили ей щей. Блокадные щи – это немного кислой капусты, сваренной в кипятке. Марии Васильевне стало полегче, но ненадолго.
От голодной смерти Марию Васильевну и Лиду спасло именно чудо. У них были соседи из квартиры № 14: Михаил Никонорович Чигляев, его жена Мария Васильевна Некрасова, полная тёзка Марии Алёшиной, и их дочь с необычным именем Воля, с которой Лида очень дружила. Когда началась война, Михаила Никоноровича призвали политруком на морфлот, а Воля с мамой были эвакуированы.
Самое страшное время блокады был декабрь 41-го, в подъезде их дома № 47 по улице Плеханова было 20 квартир, а жили только в трёх. В один декабрьский день в дверь постучались, Лида открыла. На пороге стоял матросик, он спросил:
– Ты Лида?
– Да.
– Михаил Никанорович передал вам посылку.
Он отдал мешок, в нём лежали крупы и куски недоеденного хлеба, которые оставались у матросов, и которые они бережно высушивали для того, чтобы отправить в голодный Ленинград. Ещё матрос спросил про Марию Васильевну и Волю Чигляевых, но, узнав, что они здесь уже не живут, ушёл. Через несколько минут в дверь снова постучали. Это был тот же матрос, он держал мешок, который был раза в три больше того, который он уже отдал Лиде: «Раз их нет, то забирай и этот». Только благодаря этому чуду Алёшины Мария Васильевна и Лида остались живы.
[О Чигляеве:
«В июле 1941 года только что сформированный 123-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион развернулся в районе Югантово — Косколово. Дивизион состоял из трёх батарей. … Немалая заслуга в создании единого, монолитного и дружного коллектива принадлежала нашим неутомимым политработникам: комиссару дивизиона — политруку Владимиру Сергеевичу Чижикову, старшему политруку Михаилу Никаноровичу Чигляеву, политрукам Владимиру Михайловичу Звереву и Левентуеву… Они не жалели своих сил, всегда находились на самых тяжёлых участках в гуще краснофлотцев и умело вселяли в их сердца уверенность в победе, мужество и отвагу». Ист.: ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»/ МЕМУАРЫ/ В. А. БАРТАЛЕВ, ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ/ ПУТЬ В ГВАРДИЮ.
Справка:
Фамилия : Чигляев
Имя: Михаил
Отчество : Никанорович
Последнее место службы: КБФ, 147 батарея 123 ОЗАД 2 полк 3 А ПВО
Воинское звание: ст. политрук запаса
Причина выбытия: умер от ран
Дата выбытия: 05.04.1942
Ист.: http://www.obd-memorial.ru:]
Получив чудо-посылку, Мария Васильевна отправила Лиду проведать семью своего родного брата Ивана Васильевича Алёшина: в самом начале войны его отправили на фронт, он погиб практически сразу. У него остались жена Варвара, старшая дочь Анна, у которой к началу войны была своя дочка-младенец Инга, и две близняшки Евдокия (Дуся) и Люся – немного старше Лиды. Время было страшное, и Лида, которой было тогда 17 лет, решила: если умрёт Анна, она – Лида – удочерит Ингу. Когда Лида пришла в их квартиру, дверь была открыта. Кругом царила тьма: спасаясь от холода, люди завешивали окна тряпками, одеялами, одеждой. Лида зашла в их комнату, зажгла спичку. На кровати лежали четверо: Варвара, Дуся, Анна и Инга. Все они были мертвы. Тут Лида почувствовала этот мерзостный запах разлагающихся трупов и повернулась для того, чтобы уйти, как вдруг услышала слабый стон. В углу комнаты на диване лежала третья сестра Люся, живая. На санках Лида привезла её к себе домой.
Весной 1942 года пайки блокадных ленинградцев увеличились. Но спасти Люсю не удалось: у неё была крайняя степень дистрофии, казалось, что её накачали водой чёрно-сиреневого цвета. Про эту болезнь говорили: «Как будто смерть поселилась изнутри». Она не вставала с постели и всё время стонала, стонала громко – на всю огромную коммуналку, где в это время находились только она – Люся, Мария Васильевна и Лида. Люся умерла у них на руках в июле 1942.
А Мария Васильевна, пролежав полгода, смогла встать, снова начала работать. Лида работала всё блокадное время.
В конце лета 1942 года их номерное предприятие перевели в город Подольск Московской области для работы на заводе № 125 при Министерстве авиационной промышленности. Там выпускались корпуса для истребителей, которые потом отправлялись в Куйбышев, где их начиняли техникой. В Подольске было легче, там была земля, Мария Васильевна и Лида выращивали картошку и другие овощи.
Лида продолжила учиться – уже в вечерней школе, так как днём она работала. Рабочий день во время войны длился 12 часов. Было тяжело, но её юношеские мечты в светлые времена были сильнее.
Победа тоже была не за горами. Так, 17 июля 1944 года Лида из Подольска приехала на электричке в Москву. Повод для поездки был какой-то совсем незначительный, будничный. Она вышла с Курского вокзала и тут увидела колонны пленных немцев – несколько тысяч: под конвоем они шли по Москве: и солдаты, и офицеры и даже генералы. Это был парад побеждённых. Желания убить их, отомстить за свои и чужие беды у неё не возникло, главным чувством было омерзение.
Лида окончила школу с золотой медалью. В мае 1945 её приняли в коммунистическую партию, в идеалы которой она верила так же искренне, как и в победу над фашистской Германией. К прочему, в ту эпоху понятие партия и победа были тесно переплетены. На выпускном вечере, где присутствовали военные и гражданские начальники Подольска, Лида произнесла такую речь, что её тут же рекомендовали в МГИМО. Но она хотела жить в Ленинграде и учиться в Ленинградском университете.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Вскоре после окончания войны – в 1945 году Лидия вернулась в родной город, через год приехала и Мария Васильевна, жить они стали на улице Декабристов, – теперь она носит свое прежнее, дореволюционное имя – Офицерская. Послевоенный быт налаживался.
Но был ещё один день, который остался таким же горьким, как дни блокады. 5 января 1946 года. Война уже закончилась. В этот день казнили пленных фашистов. Лидия Ивановна рассказывала: «Помню, как всех агитировали смотреть эту казнь, как все мечтали отомстить за свои потери, несчастья, за погибших близких, за разрушенные судьбы. На площадь у кинотеатра «Гигант» подъехал грузовик с немцами, 8 человек. Среди них был пожилой офицер. Он стоял спокойно, невозмутимо, сам поправил неудачно накинутую петлю на своей шее. Но был и мальчик, лет 16–18. Когда на него накинули петлю, он отчаянно закричал: «Nein! Nein! Nein!..». Его голос звучал один на безмолвной площади… Жить! Ведь он хотел просто жить… Этот мальчик сам стал жертвой фашизма, он не хотел воевать, он не был виноват в том, что его заставляли делать, он же был почти ребенок! «Nein! Nein! Nein!..», – истошно кричал он войне, всему свету, который оказался для него таким жестоким, а через несколько секунд был уже мертв».
Летом 1947 года Лида поехала навестить родственников на Кубань. Туда Маревьяна Васильевна Алёшина (мама Марии Васильевны) и её младшие и уже замужние дочери вынуждены были переехать из своей родной деревни Средний Двор, что близ города Мологи. Этот город находился при впадении реки с таким же названием – Молога – в Волгу. А в 1935 году советская власть приняла постановление о том, что в этих местах должны расположиться Рыбинское водохранилище и Рыбинская ГЭС. Город Мологу затопили, а её жителей отправили жить, куда кого придётся. Кто-то из Алёшиных остался неподалёку от тех мест – в Рыбинске, Череповце и Весьегонске, другие подались на Кубань.
Там, в Краснодарском крае, Маревьяну Васильевну и её домочадцев и застала война и оккупация. Дом Алёшиных стоял в селе на отшибе – совсем рядом с лесом. Немцы у них не жили, но днем заходили постоянно: то за припасами с огорода, то с проверкой. А как наступала ночь, к Алёшиным приходили партизаны и передавали нужную информацию для подполья. Так продолжалось до конца оккупации. Особенно тяжело всё это далось Маревьяне Васильевне: очень душа у неё болела за детей, да в годах она была уже в преклонных. Когда немцы ушли, она ещё недолго пожила. Сердце не выдержало от радости, когда она узнала о победе над Германией.
Лиду на Кубани её тетушки Няха и Иринья с семьями встретили очень душевно, про своё житьё-бытьё во время войны рассказали, про блокадное время Марии Васильевны и Лиды выслушали, накормили чем могли: всё же свой огород был. В любом случае это было лучше, чем карточки на продукты, которые активно действовали в городах до конца 1947 года. Показали семейные фотографии. Одна из них особенно заинтересовала Лиду. Это была фотография ухоженной дамы в шляпе: она сидела на кожаном кресле рядом с роялем. На фоне деревенской родни этот снимок сильно выделялся. Лида спросила: кто эта холёная женщина? В ответ услышала: «Разве ты не узнаешь свою маму?». Лида вспомнила рассказ Марии Васильевны про её такое счастливое и такое короткое замужество с Михаилом Гулиным, попросила у тёток фотографию своей мамы в юности и вернулась с ней в Ленинград. Радостно показала снимок Марии Васильевне, но в ответ увидела её напряженное лицо. Она строго-настрого запретила дочери рассказывать кому бы то ни было о своём муже-дворянине, а фотографию сожгла. Времена были ещё сталинские.
После войны Мария Васильевна ещё несколько лет работала на фабрике, радовалась успехам дочки, которая закончила филологический факультет Ленинградского университета и стала работать редактором в Радиокомитете. А когда родилась внучка, ушла с работы и с удовольствием растворилась в пелёнках-распашонках, а потом в школьных бантиках.
История семьи Алёшиных – Марии Васильевны (10.02.1899 – 03.10.1974) и Лидии Ивановны (16.12.1924 -28.10.2011) – записала с их слов Татьяна Филиппова, их внучка и дочь, при участии своей дочери, Марии Бердяевой (названа в честь прабабушки).
Москва, октябрь 2015
Сайт «ВИ», март 2017
См. также:
Алешина Анна Ивановна
Источник сведений: Книга памяти «Блокада, 1941–1944»